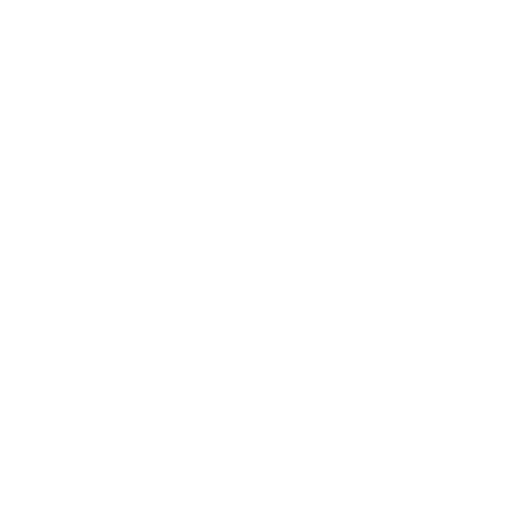Интервью
медийные персоны и замечательные люди
Михаил Боярский: «В театре нужно искать не новое, а вечное»
«ИНФОСКОП», декабрь 2019
25 и 26 декабря в Театре им. Ленсовета состоится премьера спектакля «В этом милом
старом доме» по одноименной пьесе известного советского драматурга Алексея
Арбузова — автора, чьи произведения с успехом шли на ленсоветовской сцене в годы
художественного руководства Игоря Владимирова. Арбузова театр выбрал и для
постановки к 70-летию Михаила Боярского. Некогда один из лидеров труппы, теперь он
выходит на родную сцену в качестве приглашенного артиста лишь в спектакле
«Смешанные чувства», также поставленном Леваковым. И вот — новая работа. В
разгар репетиционного периода мы встретились с легендой ленинградской сцены,
чтобы поговорить о премьере и о театре прошлого, настоящего и будущего.
Михаил Сергеевич, много лет назад вы ушли из труппы театра Ленсовета. Как себя
чувствуете здесь сейчас, когда приходите играть или репетировать спектакли: как
дома, как в гостях, как на работе?
Раньше это действительно был театр-дом, в котором мы проводили время с утра до ночи, а
ночами готовили капустники. Здесь царила семейная атмосфера. Мы отмечали в театре все
дни рождения, все праздники, и даже если не было спектакля, приходили в театр, чтобы
пообщаться, и после спектакля оставались, чтобы поделиться соображениями, новостями,
анекдотами, рассказами... После ухода Владимирова из жизни многие актеры, с которыми я
был близко знаком, покинули эти стены. В других театрах я никогда не работал. Какой-то
период времени только играл спектакли в Ленкоме (Театр им. Ленинского комсомола, ныне
Театр-фестиваль «Балтийский дом» — Прим.ред.), но туда я приходил именно «на работу».
А в Ленсовета возвращаюсь постоянно. Это связано с Ларисой Луппиан, с Сережей Мигицко,
с Аней Алексахиной, с Олегом Леваковым — это небольшой «пучок» артистов, при которых
я пришел в театр. Леваков поставил «Смешанные чувства», а теперь ставит «В этом милом
старом доме», где мы играем с Ларисой. Так что «старая гвардия» здесь еще есть. Но Театр
Ленсовета как таковой очень изменился, и сегодня он меня не интересует с творческой точки
зрения. Он совершенно другой — не мой, не тот, в котором я начинал и любил работать...
Но репетировать сегодня вам интересно?
Спектакль рождается под руководством Левакова — человека, которого я давно и хорошо
знаю. Я понимаю, что он исповедует. А из прочих артистов, которые заняты в спектакле, мне
известен только один — это Лариса Луппиан. Остальные все — молодые ребята. У них еще
нет своего почерка, они его только приобретают. Куда они повернут дальше, я не знаю —
судьба сложится у всех по-разному. Но про моего персонажа у автора пьесы написано:
«Эраст Петрович Венецианов, 70 лет». Это соответствует моему возрасту. Я не «волоку на
себе» весь спектакль, не выражаю ключевую драматургическую задачу, не несу на себе
основную нагрузку за идею автора и режиссера, за всю постановку. Слава богу, у меня далеко
не главная роль — можно сказать, эпизодическая, вспомогательная. Меня это очень
раскрепощает: можно опереться на других и «спрятаться». Мне просто приятно принять
участие в работе под руководством Левакова. Это меня вдохновляет. Я репетирую в этом
спектакле, потом что знаю, чего хочет Леваков: мы с ним говорим на одном языке.
Значит, это не бенефис к юбилею?
Нет, конечно. Это просто очередной новый спектакль Театра Ленсовета, в котором я с
удовольствием играю любопытную для себя роль, которая к тому же совпадает с моим
возрастом. Премьера должна состояться в конце декабря, в день моего рождения, так что я
надеюсь, что в «проклятое юбилейное время» я буду занят на сцене, и это поставит точку на
всяческом праздновании. И если бог даст, у меня будет время еще пожить, забыть про все эти
юбилейные торжества раз и навсегда и спокойно дальше существовать — с семьей, с детьми,
с внуками и отчасти с теми людьми, которые мне в этом театре дороги. И я думаю, что мы
этот спектакль будем играть довольно часто, если он получится — ведь сейчас пока только
репетиционный период, и пока сказать, что из этого выйдет, мне довольно сложно... Но я ценю, что это спектакль Левакова, и упор идет на режиссуру, а не только на актерские
возможности. Правда, насколько молодые артисты смогут «потянуть» эту ношу, мне не
известно. Надеюсь, что они смогут справиться с этой задачей. Я вообще люблю «актерские
спектакли» и играю в таких с удовольствием. Надеюсь, что и молодежь сможет себя проявить
— талантливо, азартно.
Как вам кажется, Леваков — в большей степени актер или режиссер?
Я думаю, что он — достойный ученик Игоря Петровича Владимирова. Он исповедует те
принципы, на которых держался Театр Ленсовета, воплощает их, насколько может. Мне
понятно, к чему он стремится, так что Леваков — не загадочная личность для меня. Мне
комфортно с ним работать, его режиссура (в отличие от так называемого современного
театра) мне близка. По крайней мере, я знаю, что я делаю в его спектаклях.
Какие принципы в профессии исповедует Леваков?
Если отталкиваться от того материала, с которым мы сейчас работаем, то это не «вольные
фантазии Левакова по поводу пьесы Арбузова». Он не переносит на сцену свои личные
ощущения, невзирая на автора. А тому примеров множество — когда у Шекспира или Чехова
мы читаем и знаем одно, а на сцене видим совсем другое: отношение режиссера к материалу.
В случае с «Милым старым домом» Леваков пытается соблюсти авторский жанр: это
лирическая пьеса, водевиль-мелодрама. Основываясь на этом, мы делаем музыкальный
спектакль, где есть возможность проявить свою музыкальность — и молодежи, и мне. У
Владимирова все спектакли были музыкальными — и «Укрощение строптивой», и «Люди и
страсти», и «Трубадур», и так далее, не буду перечислять все. Он всегда использовал музыку
как хорошую краску. Леваков делает то же самое, и мы ищем достойную музыку, которая
будет звучать в спектакле. У автора все персонажи-дети — оркестранты. Мы немного
переделываем: у нас они все — вокалисты. Не имеет значения, инструмент или голос
использует музыкант. Это будет эксперимент, потому что у большинства, в отличие от меня,
нет музыкального образования. Но ребята должны постараться существовать в жанре.
Молодые артисты обращаются к вам за поддержкой или советом?
Нет.
Вам хочется, чтобы обратились?
Нет, не хочется. Пока бразды правления находятся в руках Левакова, он со мной советуется, я
с ним советуюсь, и у нас есть понимание того, что мы должны сделать. Наше ощущение
спектакля совпадает. Поэтому когда какие-то идеи приходят мне в голову, я делюсь с ним.
Другое дело, будет он их использовать или нет, но такое посильное участие в репетиционном
периоде я принимаю. Но я не занимаюсь «поучительством» молодых актеров. Конечно же, до
совершенства им пока еще далеко, но у них есть возможность пробовать, проявлять
самостоятельность. Нельзя им обрубать крылья — они должны сами научиться летать.
Вмешиваться в этот процесс мне не кажется правильным. Может быть, потом, позже, когда
репетиции уже будут подходить к финалу и нужно будет какие-то мазки исправить, я как
партнер им что-то подскажу — или это сделает режиссер. Но не в процессе работы.
И преподавать вы никогда не хотели?
Нет.
Но предлагали?
Нет, не предлагали.
А если предложат?
(пауза) Я бы не пошел. Разве что старшим педагогом при Алисе Бруновне Фрейндлих —
если бы она набирала курс и взяла бы меня в подмастерья. Тогда я бы и сам у нее учился, и
пытался бы набить руку в преподавательском мастерстве, находясь рядом с ней. Но
поскольку педагогика — это отдельная профессия, я за нее браться не готов. Слишком
большая ответственность за судьбы молодых артистов. Это нужно уметь — а «просто так»,
из интереса, делать нельзя. Я знаю, есть многие артисты, которые идут преподавать, но я не
убежден, что они профессионально этим занимаются. Кое-чему, конечно, можно научить
всегда, но ведь речь не о самодеятельности, а об обучении будущих профессионалов. Я не рискну. Кроме того, это очень долго — пять лет.
Вы не готовы погружаться в столь длительный период с такой большой
ответственностью?
Знаете, раньше меня иногда приглашали дать мастер-класс. Но это на день, а не на годы.
Разные педагоги предлагали мне поделиться опытом со своими подопечными. Вот это для
меня приемлемо: прийти, рассказать... Но только как «одноразовый» вариант.
А как выглядит такой вариант: как лекция, как показ?
Зависит от того, какой язык общения мы найдем. В процессе ли это репетиций, в поиске ли
подхода к роли... Я не испытываю проблем с этим, и у меня есть свои наработки. Как
обратиться к совершенно незнакомому произведению? Каковы первые шаги в создании
образа? Такие вопросы мне задавали, и я пытался ответить на них. Но профессиональное
преподавание — это совсем другое дело, иная наука. Это как в балете: есть совершенно
замечательные балерины, которые вряд ли смогут хорошо учить, в лучшем случае могут
показать. Но показывали очень многие — это не то. Как правило, мы видим, что педагог по
танцу почти не танцует сам, только умеет объяснять и на каком-то своем «птичьем языке»
доводить до совершенства. То же самое, наверное, и в театральном искусстве: показать, как
можешь лично ты, легко, а вот научить других «смочь» — задача довольно сложная.
В балете несколько иная ситуация: там рано выходят на пенсию по возрасту, и если
хотят остаться в профессии, то преподавание — почти единственный выход.
Ну, я полагаю, что и в драматическом театре молодой возраст — наиболее плодотворный.
Потому что сил много? Энергии, желания, интереса?
Много всего, что связано с молодостью. А «уходящая натура» — она и есть уходящая. К тому
же главных ролей в моем возрасте очень мало. Может быть, у Шекспира найдется
несколько... А современная драматургия, которую я, если честно, плохо знаю, и современная
литература не дают мне возможности сыграть ровесников. И романов, и пьес для стариков —
и про стариков — практически нет. Их так мало, что нужно специально выискивать.
Таких, например, как «Оскар и Розовая дама» Шмитта?
Да, вот это, пожалуй, одна из серьезных удач Алисы Бруновны, которая именно на свое 70-
летие сыграла Розовую даму в одноименном спектакле в Театре Ленсовета. Это произвело на
меня совершенно фантастическое впечатление. Есть артисты, которые остаются в отличной
форме в этом возрасте — это и Фрейндлих, и Чурикова, и некоторые другие... Но все равно
такая роль — это прежде всего благодарность артисту за то, что он еще выходит на сцену. У
меня же ощущения глубокого разочарования — и в театре, и в окружающем мире.
И как вы справляетесь с этим ощущением?
Я хватаюсь за семью: у меня есть супруга, взрослые дети и годовалый внук, семигодовалый
внук, десятилетняя внучка, двадцатилетняя внучка... В семье я черпаю силы и вижу свою
роль в том, что там я еще кому-то нужен. Что касается театра, тут у меня никаких фантазий,
иллюзий, перспектив и планов нет. Тот театр, в котором я работал, исчез. Пожалуй, те
спектакли, которые находятся в руках у Левакова, последние, где я понимаю, что я делаю.
Если бы я был молод и посмотрел бы спектакли, которые популярны, получают «Маски» и
прочие премии, то я бы сегодня в театральный институт не пошел. Потому что мне это новое
искусство совершенно не интересно и чуждо. Я не вижу в нем ни радости, ни удовольствия,
и у меня нет желания быть рядом с теми, кто такой театр делает. Я видел множество
прекрасных спектаклей у Товстоногова, у Агамирзяна, у Корогодского... И во МХАТе, и в
«Современнике»... Вот тогда я страстно хотел быть рядом с этими потрясающими артистами
— с Луспекаевым, с Юрским, с Дуровым, с Табаковым, с Ефремовым...
Причаститься?
Ну да, я даже не очень хотел играть с ними — мне просто хотелось именно быть рядом, хотя
бы находиться за кулисами с ними. Ведь та азартная компания — бесшабашная, нищая, но
безумно веселая, с потрясающим юмором — умела из всего извлекать праздник. И за
кулисами, и на сцене, и на гастролях. Вот в ту компанию я хотел влиться. Не хотел быть
артистом, а хотел быть именно причастным ко всему этому. Я готов был стать и гримером, и костюмером, но обязательно работать с теми людьми.
Куда все это делось? Этот азарт, юмор, вдохновение, восторг, праздник в театре...
Я не знаю. Я анализировал это и постепенно перестал искать ответы, потому что
бессмысленно гадать. Все идет так, как идет. Когда я задавал этот вопрос более опытным
коллегам, они отвечали: это «чумка», это пройдет... Не проходит! Я для себя сделал вывод,
что после чернобыльского взрыва появилось большое количество мутантов, особенно среди
режиссеров. У них голова повернулась в другую сторону. Причем в сторону очень вонючую:
на западные авангардные спектакли. И сегодня у нас на сцену выносят всякую обнаженку,
мат, пошлость, хотя этот период уже давно прошел там, на Западе. А наши сегодня только
догоняют, но выставляют это как авангард. Почему мат на сцене собирает такое количество
зрителей? Например, целиком заполнен Ледовый дворец, яблоку негде упасть, на сцене стоит
один человек и два часа матерится. А ведь ни один подлинно народный артист России со
школой Константина Сергеевича Станиславского не соберет такого количества людей, как
этот матерящийся человек. Значит, людям этого хочется. Я не понимаю, что это: такое
проявление свободы? Что они в этом находят? Или возьмем стенд-ап: это новый модный
жанр, в котором я тоже мало что понимаю и совсем этим не интересуюсь. И если мой театр
умирает, то с богом — значит, я вместе с ним должен это сделать. Недавно я смотрел
передачу об Олеге Борисове: вот это то, чему бы я хотел учиться, то, что мне интересно, тот,
с кем я бы хотел выходить на сцену. Он был сложный человек, но замечательнейший
профессионал и артист. Когда такие люди уходят, вместе с их уходом теряется и смысл
прихода в театр. Трудно даже представить, что было на сцене БДТ, когда на сцене находились
Луспекаев, Копелян, Стржельчик, Медведев, Ковель, Доронина, Смоктуновский, Юрский,
Трофимов!.. Я боюсь кого-то забыть, но эти артисты творили что-то невероятное! Все
спектакли Товстоногова, какой ни возьми, были сделаны «через артистов» — и только так,
без какой-то безумной режиссуры, которая от артистов отвлекает. А сейчас я вижу пустую
режиссуру, и уже трудно сказать, хорошо играет артист или не хорошо. Гамлет — женщина?
Возможно. Но тогда кто и что играет в этой пьесе? Загадочное явление... Теперь появилась
тенденция делать на сцене из женщин мужчин, а из мужчин — женщин, а в конечном итоге
непонятно, кто какого пола и сколько их всего. Чувствуется в этом какая-то растерянность.
Скорее, болезненность...
Может быть. Драться с ними, ругать их бессмысленно. Приходится воспринимать как
должное. Мол, так уж получилось. И если эта болезнь не пройдет, то мне жалко моих внуков.
Надеюсь, что родители сумеют их в разумной степени оградить от такого театра, хотя
каждый сам выбирает, что ему смотреть, тем более, что в гаджетах можно увидеть все, что
угодно. Но куда же без Чехова, без Толстого, без высокой артистической игры?
Моя тетя в конце 1960-х, будучи студенткой мединститута, устроилась в БДТ
уборщицей, чтобы иметь возможность каждый день смотреть спектакли Товстоногова.
Да, тогда много было таких патриотов театра. И молодые артисты были все думающие,
читающие, прекрасно знающие литературу. У каждого театра было свое лицо, и выражалось
оно в том или ином актерском ансамбле. Фантастика! Вот тот театр мне гораздо больше
нравился. Я не очень понимаю, почему сегодня к этому не стремятся: все кончается обычным
ремеслом. Но никакая новая режиссура не заменит тех чувств, которые может вызвать только
думающий и чувствующий артист. А нынче монологи из пьес вымарывают: давайте лучше
разденемся и голыми походим по сцене. Никому не нужен лексикон Достоевского, Гоголя,
Пушкина, где ни одного матерного слова не было — но всегда было ясно, кто ругается, кого
ругает, как и, главное, за что. Теперь наоборот — все в лоб. Наверное, так можно — хотя я
считаю, что нельзя. Но у нас же ведь демократия... Вот пускай все занимаются этой «демократией» в искусстве — а я не буду.
А чем плох перенос действия классической пьесы в наши дни?
Это все равно что сыграть на губной гармошке концерт Чайковского. Все-таки губная
гармошка — инструмент роковый, современный. Почему не переделывают симфонии на
новый лад? И сметь даже не смеют, права не имеют? Потому что в симфонии существует гармония и замысел автора. «Реквием» Моцарта никогда не сыграть и не спеть по-другому,
чем написано композитором, потому что это будет фальшиво и неграмотно. Это же глупость:
«А давайте «Реквием» исполнит хор пенсионеров или споют «Бурановские бабушки» — они
же скоро должны умереть, им, по идее, «Реквием» должен быть ближе, чем молодым!» Ну и
что, что ближе? Сегодня многие понятия становятся анахронизмом. Традиционная семья
никому не нужна, а в любви видят очень много иррационального. По логике новых
режиссеров, Ромео и Джульетта могли бы убежать в другую страну, принять подданство,
поменять гражданство и пол, и никто бы их не тронул. Или вот приняли в Англии закон, что
со сцены нельзя произносить «леди» и «сэр», чтобы, не дай бог, не обидеть тех, кто таковыми
не является.
Толерантность доходит до абсурда...
Пускай! Я с подобными проявлениями глупости не согласен, но против этого бессмысленно
бороться. Доказывать что-то своей актерской школой достаточно сложно, но все-таки можно
— имеет смысл попытаться сохранить все то, что было наработано нашими дедами и
прадедами. Посмотрите телеспектакль Александра Аркадьевича Белинского «Мертвые
души» Гоголя: как и кем это было блестяще сыграно в конце 60-х. А пойти сегодня на
«Маленькие трагедии» в современной трактовке — это все равно, что выкинуть в грязь
томик Пушкина... Я на такое не способен. Возможно, мне нужно больше смотреть, чтобы
как-то привыкнуть к этому... Но я, наоборот, почти совсем перестал ходить в театры. Я если и
захожу, то лишь для того, чтобы начать смотреть спектакль и иметь возможность быстро
уйти. Так, не из первого ряда, а с краешку, из-за ширмочки посмотрю. Если услышу мат или
увижу глупость «ради новизны» — до свидания! В театре искать нужно не новое, а вечное.
Конечно, старое должно уходить, а новому не нужно мешать. Но я с этим новым не всегда
справляюсь, а судить не имею права.
С вашим опытом и взглядами — и не имеете права?
Мои опыт и взгляды при мне и остаются. «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не
оспаривай глупца»: вот все, что мне остается делать. Но называть многих глупцами тоже
довольно рискованно — есть среди них довольно эрудированные люди. Я просто удивляюсь
своему ощущению: я не понимаю людей, и меня самого почти никто уже не понимает, будто
я не на русском, а на каком-то другом языке говорю. Я тоже не знаю многих слов, которые
произносит молодежь, и никак на них не реагирую. Я был в такой ситуации сам, когда был
молодым артистом. На наши спектакли приходили артисты пожилого возраста, и у них порой
волосы дыбом ставали от наших идей и от нашего внешнего вида. Но как-то же уживалась
молодежь с опытными артистами. Безусловно и бесспорно была преемственность, а сейчас
она исчезла. Молодежи ничего этого не нужно. Они ни о чем не спрашивают, потому что им
ничего не интересно. А я не борец, чтобы бегать и всем объяснять, что такое хорошо и что
такое плохо. Каждый должен заниматься своим делом. Вот я и занимаюсь своим. «Ты лучше
голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало»... Такие слова,
как «неприлично» или «стыдно», исчезли. Если что-то продается и покупается, значит, это
нужно — вот и вся нынешняя мораль. Раньше были ограничители совести, а теперь никому
ни за что не стыдно. И это как бы нормально, ведь пользуется успехом и вызывает восторг.
Нельзя ничего добиться при недостатке связей. Все хотят быстро, мгновенно добиться чего-
то такого, чего делать нельзя, и при этом требуют, чтобы это было узаконено. Удивлять,
удивлять — чем угодно, лишь бы удивить!
Но ведь и в вас осталась способность удивляться — удивительная в наше время...
Я научился с этим жить. Просто не обращать внимания. У меня есть возможность закрыться
в свою раковину. Я очень консервативный, старый, из прошлого века человек, который, хоть
убей, не согласится ни на какие эксперименты. Это плохо.
Почему — плохо? Это позиция.
Потому что есть ряд неугомонных людей, которым нравится экспериментировать ради
интереса. Но я себя к таковым не отношу. Я похож на старый пейджер: никому не нужен, но
выбросить жалко.
Неужели и телефон у вас кнопочный?
Кнопочный, конечно. Просто чтобы звонить. Я о себе понимаю, что мой срок годности истек.
Я уже наигрался, наснимался, напелся, «нателевизионился»... Все, что было возможно, я
попробовал и сделал. Достаточно, я считаю. Дальше уже не интересно.
Давно вам стало не интересно?
Давно. Лет с пятидесяти. С этим нужно просто смириться. Это не страшно — хуже то, что
вызывает чувство злости, раздражения. Желчь разъедает, озлобленность разрушает. Поэтому
для того, чтобы не обозлиться на всех, не быть яростным, нужно просто успокоиться и
воспринимать происходящее как... погоду.
В смысле, бесполезно бить руками ветер и пытаться выключить дождь?
Конечно. Нужно относиться к ветру и к дождю совершенно спокойно. Срываться нельзя. У
меня есть надежда, что «наверху» подожмут гайки, и многие непотребные вещи будут
запрещены. Я, например, за жесткую цензуру, за разумные ограничения. Но, к сожалению,
это не демократично, хотя если бы я был министром культуры, я бы почти все театры закрыл.
Этого я в себе и боюсь: если я сержусь, значит, я неправ.
«Юпитер, ты сердишься значит, ты неправ»?
Именно. Нужно отойти в сторону, дать дорогу молодым. И пускай разбираются сами со своей
жизнью, проблемами и амбициями, доказывают свою состоятельность — прежде всего
самим себе. А я не собираюсь никому ничего доказывать. Мне это не нужно. Я с этим
завязал. Господь бог дает каждому жизнь и смерть. Ты исчезнешь, и все твои проблемы
решены. Это все задумано очень толково.
Но жестоко.
Ну, что поделаешь? Надо в церковь ходить чаще. Там все объяснят. И спектакли должны
существовать такие, чтобы зритель мог задуматься о своей жизни. Все, что по поводу правил
жизни можно было сказать, уже сказано умными людьми — я себя к ним не отношу. А лучше
всего на любые вопросы отвечает музыка. Слушайте Чайковского. Читайте Екклесиаст.
«Исповедь» Толстого обязательно нужно прочесть, чтобы разобраться, что к чему, сравнить
себя с великими людьми, понять, на каком месте находишься. Как только начинаешь читать
Пушкина, понимаешь, какое ты дерьмо. «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и
томит меня тоскою однозначный жизни шум» — все сказано уже им. Все очень схоже, только
он — гений, а ты — никто. Именно поэтому «Маленькие трагедии» нужно играть так, как он
написал, а не так, как ощутил это режиссер. Чувства режиссера «мелко плавают», все
остальные органы видно. Я бы ни за что не пошел на новые версии «Евгения Онегина». Я не
большой поклонник экспериментов.
А если бы вас попросили написать книгу — не мемуары о себе в стиле «моя жизнь в искусстве», а, скажем, книгу, или хотя бы главу, об Алисе Бруновне Фрейндлих?
Я слишком дорожу нашими отношениями с Алисой Бруновной, чтобы на такое согласиться.
Вот сегодня вечером к ней пойду в гости — разбираться с жизнью. Она человек гибкий,
мягкий, воспринимает все совершенно спокойно. Давно я не слушал от нее хорошего совета.
Беседовала Мария Кингисепп
старом доме» по одноименной пьесе известного советского драматурга Алексея
Арбузова — автора, чьи произведения с успехом шли на ленсоветовской сцене в годы
художественного руководства Игоря Владимирова. Арбузова театр выбрал и для
постановки к 70-летию Михаила Боярского. Некогда один из лидеров труппы, теперь он
выходит на родную сцену в качестве приглашенного артиста лишь в спектакле
«Смешанные чувства», также поставленном Леваковым. И вот — новая работа. В
разгар репетиционного периода мы встретились с легендой ленинградской сцены,
чтобы поговорить о премьере и о театре прошлого, настоящего и будущего.
Михаил Сергеевич, много лет назад вы ушли из труппы театра Ленсовета. Как себя
чувствуете здесь сейчас, когда приходите играть или репетировать спектакли: как
дома, как в гостях, как на работе?
Раньше это действительно был театр-дом, в котором мы проводили время с утра до ночи, а
ночами готовили капустники. Здесь царила семейная атмосфера. Мы отмечали в театре все
дни рождения, все праздники, и даже если не было спектакля, приходили в театр, чтобы
пообщаться, и после спектакля оставались, чтобы поделиться соображениями, новостями,
анекдотами, рассказами... После ухода Владимирова из жизни многие актеры, с которыми я
был близко знаком, покинули эти стены. В других театрах я никогда не работал. Какой-то
период времени только играл спектакли в Ленкоме (Театр им. Ленинского комсомола, ныне
Театр-фестиваль «Балтийский дом» — Прим.ред.), но туда я приходил именно «на работу».
А в Ленсовета возвращаюсь постоянно. Это связано с Ларисой Луппиан, с Сережей Мигицко,
с Аней Алексахиной, с Олегом Леваковым — это небольшой «пучок» артистов, при которых
я пришел в театр. Леваков поставил «Смешанные чувства», а теперь ставит «В этом милом
старом доме», где мы играем с Ларисой. Так что «старая гвардия» здесь еще есть. Но Театр
Ленсовета как таковой очень изменился, и сегодня он меня не интересует с творческой точки
зрения. Он совершенно другой — не мой, не тот, в котором я начинал и любил работать...
Но репетировать сегодня вам интересно?
Спектакль рождается под руководством Левакова — человека, которого я давно и хорошо
знаю. Я понимаю, что он исповедует. А из прочих артистов, которые заняты в спектакле, мне
известен только один — это Лариса Луппиан. Остальные все — молодые ребята. У них еще
нет своего почерка, они его только приобретают. Куда они повернут дальше, я не знаю —
судьба сложится у всех по-разному. Но про моего персонажа у автора пьесы написано:
«Эраст Петрович Венецианов, 70 лет». Это соответствует моему возрасту. Я не «волоку на
себе» весь спектакль, не выражаю ключевую драматургическую задачу, не несу на себе
основную нагрузку за идею автора и режиссера, за всю постановку. Слава богу, у меня далеко
не главная роль — можно сказать, эпизодическая, вспомогательная. Меня это очень
раскрепощает: можно опереться на других и «спрятаться». Мне просто приятно принять
участие в работе под руководством Левакова. Это меня вдохновляет. Я репетирую в этом
спектакле, потом что знаю, чего хочет Леваков: мы с ним говорим на одном языке.
Значит, это не бенефис к юбилею?
Нет, конечно. Это просто очередной новый спектакль Театра Ленсовета, в котором я с
удовольствием играю любопытную для себя роль, которая к тому же совпадает с моим
возрастом. Премьера должна состояться в конце декабря, в день моего рождения, так что я
надеюсь, что в «проклятое юбилейное время» я буду занят на сцене, и это поставит точку на
всяческом праздновании. И если бог даст, у меня будет время еще пожить, забыть про все эти
юбилейные торжества раз и навсегда и спокойно дальше существовать — с семьей, с детьми,
с внуками и отчасти с теми людьми, которые мне в этом театре дороги. И я думаю, что мы
этот спектакль будем играть довольно часто, если он получится — ведь сейчас пока только
репетиционный период, и пока сказать, что из этого выйдет, мне довольно сложно... Но я ценю, что это спектакль Левакова, и упор идет на режиссуру, а не только на актерские
возможности. Правда, насколько молодые артисты смогут «потянуть» эту ношу, мне не
известно. Надеюсь, что они смогут справиться с этой задачей. Я вообще люблю «актерские
спектакли» и играю в таких с удовольствием. Надеюсь, что и молодежь сможет себя проявить
— талантливо, азартно.
Как вам кажется, Леваков — в большей степени актер или режиссер?
Я думаю, что он — достойный ученик Игоря Петровича Владимирова. Он исповедует те
принципы, на которых держался Театр Ленсовета, воплощает их, насколько может. Мне
понятно, к чему он стремится, так что Леваков — не загадочная личность для меня. Мне
комфортно с ним работать, его режиссура (в отличие от так называемого современного
театра) мне близка. По крайней мере, я знаю, что я делаю в его спектаклях.
Какие принципы в профессии исповедует Леваков?
Если отталкиваться от того материала, с которым мы сейчас работаем, то это не «вольные
фантазии Левакова по поводу пьесы Арбузова». Он не переносит на сцену свои личные
ощущения, невзирая на автора. А тому примеров множество — когда у Шекспира или Чехова
мы читаем и знаем одно, а на сцене видим совсем другое: отношение режиссера к материалу.
В случае с «Милым старым домом» Леваков пытается соблюсти авторский жанр: это
лирическая пьеса, водевиль-мелодрама. Основываясь на этом, мы делаем музыкальный
спектакль, где есть возможность проявить свою музыкальность — и молодежи, и мне. У
Владимирова все спектакли были музыкальными — и «Укрощение строптивой», и «Люди и
страсти», и «Трубадур», и так далее, не буду перечислять все. Он всегда использовал музыку
как хорошую краску. Леваков делает то же самое, и мы ищем достойную музыку, которая
будет звучать в спектакле. У автора все персонажи-дети — оркестранты. Мы немного
переделываем: у нас они все — вокалисты. Не имеет значения, инструмент или голос
использует музыкант. Это будет эксперимент, потому что у большинства, в отличие от меня,
нет музыкального образования. Но ребята должны постараться существовать в жанре.
Молодые артисты обращаются к вам за поддержкой или советом?
Нет.
Вам хочется, чтобы обратились?
Нет, не хочется. Пока бразды правления находятся в руках Левакова, он со мной советуется, я
с ним советуюсь, и у нас есть понимание того, что мы должны сделать. Наше ощущение
спектакля совпадает. Поэтому когда какие-то идеи приходят мне в голову, я делюсь с ним.
Другое дело, будет он их использовать или нет, но такое посильное участие в репетиционном
периоде я принимаю. Но я не занимаюсь «поучительством» молодых актеров. Конечно же, до
совершенства им пока еще далеко, но у них есть возможность пробовать, проявлять
самостоятельность. Нельзя им обрубать крылья — они должны сами научиться летать.
Вмешиваться в этот процесс мне не кажется правильным. Может быть, потом, позже, когда
репетиции уже будут подходить к финалу и нужно будет какие-то мазки исправить, я как
партнер им что-то подскажу — или это сделает режиссер. Но не в процессе работы.
И преподавать вы никогда не хотели?
Нет.
Но предлагали?
Нет, не предлагали.
А если предложат?
(пауза) Я бы не пошел. Разве что старшим педагогом при Алисе Бруновне Фрейндлих —
если бы она набирала курс и взяла бы меня в подмастерья. Тогда я бы и сам у нее учился, и
пытался бы набить руку в преподавательском мастерстве, находясь рядом с ней. Но
поскольку педагогика — это отдельная профессия, я за нее браться не готов. Слишком
большая ответственность за судьбы молодых артистов. Это нужно уметь — а «просто так»,
из интереса, делать нельзя. Я знаю, есть многие артисты, которые идут преподавать, но я не
убежден, что они профессионально этим занимаются. Кое-чему, конечно, можно научить
всегда, но ведь речь не о самодеятельности, а об обучении будущих профессионалов. Я не рискну. Кроме того, это очень долго — пять лет.
Вы не готовы погружаться в столь длительный период с такой большой
ответственностью?
Знаете, раньше меня иногда приглашали дать мастер-класс. Но это на день, а не на годы.
Разные педагоги предлагали мне поделиться опытом со своими подопечными. Вот это для
меня приемлемо: прийти, рассказать... Но только как «одноразовый» вариант.
А как выглядит такой вариант: как лекция, как показ?
Зависит от того, какой язык общения мы найдем. В процессе ли это репетиций, в поиске ли
подхода к роли... Я не испытываю проблем с этим, и у меня есть свои наработки. Как
обратиться к совершенно незнакомому произведению? Каковы первые шаги в создании
образа? Такие вопросы мне задавали, и я пытался ответить на них. Но профессиональное
преподавание — это совсем другое дело, иная наука. Это как в балете: есть совершенно
замечательные балерины, которые вряд ли смогут хорошо учить, в лучшем случае могут
показать. Но показывали очень многие — это не то. Как правило, мы видим, что педагог по
танцу почти не танцует сам, только умеет объяснять и на каком-то своем «птичьем языке»
доводить до совершенства. То же самое, наверное, и в театральном искусстве: показать, как
можешь лично ты, легко, а вот научить других «смочь» — задача довольно сложная.
В балете несколько иная ситуация: там рано выходят на пенсию по возрасту, и если
хотят остаться в профессии, то преподавание — почти единственный выход.
Ну, я полагаю, что и в драматическом театре молодой возраст — наиболее плодотворный.
Потому что сил много? Энергии, желания, интереса?
Много всего, что связано с молодостью. А «уходящая натура» — она и есть уходящая. К тому
же главных ролей в моем возрасте очень мало. Может быть, у Шекспира найдется
несколько... А современная драматургия, которую я, если честно, плохо знаю, и современная
литература не дают мне возможности сыграть ровесников. И романов, и пьес для стариков —
и про стариков — практически нет. Их так мало, что нужно специально выискивать.
Таких, например, как «Оскар и Розовая дама» Шмитта?
Да, вот это, пожалуй, одна из серьезных удач Алисы Бруновны, которая именно на свое 70-
летие сыграла Розовую даму в одноименном спектакле в Театре Ленсовета. Это произвело на
меня совершенно фантастическое впечатление. Есть артисты, которые остаются в отличной
форме в этом возрасте — это и Фрейндлих, и Чурикова, и некоторые другие... Но все равно
такая роль — это прежде всего благодарность артисту за то, что он еще выходит на сцену. У
меня же ощущения глубокого разочарования — и в театре, и в окружающем мире.
И как вы справляетесь с этим ощущением?
Я хватаюсь за семью: у меня есть супруга, взрослые дети и годовалый внук, семигодовалый
внук, десятилетняя внучка, двадцатилетняя внучка... В семье я черпаю силы и вижу свою
роль в том, что там я еще кому-то нужен. Что касается театра, тут у меня никаких фантазий,
иллюзий, перспектив и планов нет. Тот театр, в котором я работал, исчез. Пожалуй, те
спектакли, которые находятся в руках у Левакова, последние, где я понимаю, что я делаю.
Если бы я был молод и посмотрел бы спектакли, которые популярны, получают «Маски» и
прочие премии, то я бы сегодня в театральный институт не пошел. Потому что мне это новое
искусство совершенно не интересно и чуждо. Я не вижу в нем ни радости, ни удовольствия,
и у меня нет желания быть рядом с теми, кто такой театр делает. Я видел множество
прекрасных спектаклей у Товстоногова, у Агамирзяна, у Корогодского... И во МХАТе, и в
«Современнике»... Вот тогда я страстно хотел быть рядом с этими потрясающими артистами
— с Луспекаевым, с Юрским, с Дуровым, с Табаковым, с Ефремовым...
Причаститься?
Ну да, я даже не очень хотел играть с ними — мне просто хотелось именно быть рядом, хотя
бы находиться за кулисами с ними. Ведь та азартная компания — бесшабашная, нищая, но
безумно веселая, с потрясающим юмором — умела из всего извлекать праздник. И за
кулисами, и на сцене, и на гастролях. Вот в ту компанию я хотел влиться. Не хотел быть
артистом, а хотел быть именно причастным ко всему этому. Я готов был стать и гримером, и костюмером, но обязательно работать с теми людьми.
Куда все это делось? Этот азарт, юмор, вдохновение, восторг, праздник в театре...
Я не знаю. Я анализировал это и постепенно перестал искать ответы, потому что
бессмысленно гадать. Все идет так, как идет. Когда я задавал этот вопрос более опытным
коллегам, они отвечали: это «чумка», это пройдет... Не проходит! Я для себя сделал вывод,
что после чернобыльского взрыва появилось большое количество мутантов, особенно среди
режиссеров. У них голова повернулась в другую сторону. Причем в сторону очень вонючую:
на западные авангардные спектакли. И сегодня у нас на сцену выносят всякую обнаженку,
мат, пошлость, хотя этот период уже давно прошел там, на Западе. А наши сегодня только
догоняют, но выставляют это как авангард. Почему мат на сцене собирает такое количество
зрителей? Например, целиком заполнен Ледовый дворец, яблоку негде упасть, на сцене стоит
один человек и два часа матерится. А ведь ни один подлинно народный артист России со
школой Константина Сергеевича Станиславского не соберет такого количества людей, как
этот матерящийся человек. Значит, людям этого хочется. Я не понимаю, что это: такое
проявление свободы? Что они в этом находят? Или возьмем стенд-ап: это новый модный
жанр, в котором я тоже мало что понимаю и совсем этим не интересуюсь. И если мой театр
умирает, то с богом — значит, я вместе с ним должен это сделать. Недавно я смотрел
передачу об Олеге Борисове: вот это то, чему бы я хотел учиться, то, что мне интересно, тот,
с кем я бы хотел выходить на сцену. Он был сложный человек, но замечательнейший
профессионал и артист. Когда такие люди уходят, вместе с их уходом теряется и смысл
прихода в театр. Трудно даже представить, что было на сцене БДТ, когда на сцене находились
Луспекаев, Копелян, Стржельчик, Медведев, Ковель, Доронина, Смоктуновский, Юрский,
Трофимов!.. Я боюсь кого-то забыть, но эти артисты творили что-то невероятное! Все
спектакли Товстоногова, какой ни возьми, были сделаны «через артистов» — и только так,
без какой-то безумной режиссуры, которая от артистов отвлекает. А сейчас я вижу пустую
режиссуру, и уже трудно сказать, хорошо играет артист или не хорошо. Гамлет — женщина?
Возможно. Но тогда кто и что играет в этой пьесе? Загадочное явление... Теперь появилась
тенденция делать на сцене из женщин мужчин, а из мужчин — женщин, а в конечном итоге
непонятно, кто какого пола и сколько их всего. Чувствуется в этом какая-то растерянность.
Скорее, болезненность...
Может быть. Драться с ними, ругать их бессмысленно. Приходится воспринимать как
должное. Мол, так уж получилось. И если эта болезнь не пройдет, то мне жалко моих внуков.
Надеюсь, что родители сумеют их в разумной степени оградить от такого театра, хотя
каждый сам выбирает, что ему смотреть, тем более, что в гаджетах можно увидеть все, что
угодно. Но куда же без Чехова, без Толстого, без высокой артистической игры?
Моя тетя в конце 1960-х, будучи студенткой мединститута, устроилась в БДТ
уборщицей, чтобы иметь возможность каждый день смотреть спектакли Товстоногова.
Да, тогда много было таких патриотов театра. И молодые артисты были все думающие,
читающие, прекрасно знающие литературу. У каждого театра было свое лицо, и выражалось
оно в том или ином актерском ансамбле. Фантастика! Вот тот театр мне гораздо больше
нравился. Я не очень понимаю, почему сегодня к этому не стремятся: все кончается обычным
ремеслом. Но никакая новая режиссура не заменит тех чувств, которые может вызвать только
думающий и чувствующий артист. А нынче монологи из пьес вымарывают: давайте лучше
разденемся и голыми походим по сцене. Никому не нужен лексикон Достоевского, Гоголя,
Пушкина, где ни одного матерного слова не было — но всегда было ясно, кто ругается, кого
ругает, как и, главное, за что. Теперь наоборот — все в лоб. Наверное, так можно — хотя я
считаю, что нельзя. Но у нас же ведь демократия... Вот пускай все занимаются этой «демократией» в искусстве — а я не буду.
А чем плох перенос действия классической пьесы в наши дни?
Это все равно что сыграть на губной гармошке концерт Чайковского. Все-таки губная
гармошка — инструмент роковый, современный. Почему не переделывают симфонии на
новый лад? И сметь даже не смеют, права не имеют? Потому что в симфонии существует гармония и замысел автора. «Реквием» Моцарта никогда не сыграть и не спеть по-другому,
чем написано композитором, потому что это будет фальшиво и неграмотно. Это же глупость:
«А давайте «Реквием» исполнит хор пенсионеров или споют «Бурановские бабушки» — они
же скоро должны умереть, им, по идее, «Реквием» должен быть ближе, чем молодым!» Ну и
что, что ближе? Сегодня многие понятия становятся анахронизмом. Традиционная семья
никому не нужна, а в любви видят очень много иррационального. По логике новых
режиссеров, Ромео и Джульетта могли бы убежать в другую страну, принять подданство,
поменять гражданство и пол, и никто бы их не тронул. Или вот приняли в Англии закон, что
со сцены нельзя произносить «леди» и «сэр», чтобы, не дай бог, не обидеть тех, кто таковыми
не является.
Толерантность доходит до абсурда...
Пускай! Я с подобными проявлениями глупости не согласен, но против этого бессмысленно
бороться. Доказывать что-то своей актерской школой достаточно сложно, но все-таки можно
— имеет смысл попытаться сохранить все то, что было наработано нашими дедами и
прадедами. Посмотрите телеспектакль Александра Аркадьевича Белинского «Мертвые
души» Гоголя: как и кем это было блестяще сыграно в конце 60-х. А пойти сегодня на
«Маленькие трагедии» в современной трактовке — это все равно, что выкинуть в грязь
томик Пушкина... Я на такое не способен. Возможно, мне нужно больше смотреть, чтобы
как-то привыкнуть к этому... Но я, наоборот, почти совсем перестал ходить в театры. Я если и
захожу, то лишь для того, чтобы начать смотреть спектакль и иметь возможность быстро
уйти. Так, не из первого ряда, а с краешку, из-за ширмочки посмотрю. Если услышу мат или
увижу глупость «ради новизны» — до свидания! В театре искать нужно не новое, а вечное.
Конечно, старое должно уходить, а новому не нужно мешать. Но я с этим новым не всегда
справляюсь, а судить не имею права.
С вашим опытом и взглядами — и не имеете права?
Мои опыт и взгляды при мне и остаются. «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не
оспаривай глупца»: вот все, что мне остается делать. Но называть многих глупцами тоже
довольно рискованно — есть среди них довольно эрудированные люди. Я просто удивляюсь
своему ощущению: я не понимаю людей, и меня самого почти никто уже не понимает, будто
я не на русском, а на каком-то другом языке говорю. Я тоже не знаю многих слов, которые
произносит молодежь, и никак на них не реагирую. Я был в такой ситуации сам, когда был
молодым артистом. На наши спектакли приходили артисты пожилого возраста, и у них порой
волосы дыбом ставали от наших идей и от нашего внешнего вида. Но как-то же уживалась
молодежь с опытными артистами. Безусловно и бесспорно была преемственность, а сейчас
она исчезла. Молодежи ничего этого не нужно. Они ни о чем не спрашивают, потому что им
ничего не интересно. А я не борец, чтобы бегать и всем объяснять, что такое хорошо и что
такое плохо. Каждый должен заниматься своим делом. Вот я и занимаюсь своим. «Ты лучше
голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало»... Такие слова,
как «неприлично» или «стыдно», исчезли. Если что-то продается и покупается, значит, это
нужно — вот и вся нынешняя мораль. Раньше были ограничители совести, а теперь никому
ни за что не стыдно. И это как бы нормально, ведь пользуется успехом и вызывает восторг.
Нельзя ничего добиться при недостатке связей. Все хотят быстро, мгновенно добиться чего-
то такого, чего делать нельзя, и при этом требуют, чтобы это было узаконено. Удивлять,
удивлять — чем угодно, лишь бы удивить!
Но ведь и в вас осталась способность удивляться — удивительная в наше время...
Я научился с этим жить. Просто не обращать внимания. У меня есть возможность закрыться
в свою раковину. Я очень консервативный, старый, из прошлого века человек, который, хоть
убей, не согласится ни на какие эксперименты. Это плохо.
Почему — плохо? Это позиция.
Потому что есть ряд неугомонных людей, которым нравится экспериментировать ради
интереса. Но я себя к таковым не отношу. Я похож на старый пейджер: никому не нужен, но
выбросить жалко.
Неужели и телефон у вас кнопочный?
Кнопочный, конечно. Просто чтобы звонить. Я о себе понимаю, что мой срок годности истек.
Я уже наигрался, наснимался, напелся, «нателевизионился»... Все, что было возможно, я
попробовал и сделал. Достаточно, я считаю. Дальше уже не интересно.
Давно вам стало не интересно?
Давно. Лет с пятидесяти. С этим нужно просто смириться. Это не страшно — хуже то, что
вызывает чувство злости, раздражения. Желчь разъедает, озлобленность разрушает. Поэтому
для того, чтобы не обозлиться на всех, не быть яростным, нужно просто успокоиться и
воспринимать происходящее как... погоду.
В смысле, бесполезно бить руками ветер и пытаться выключить дождь?
Конечно. Нужно относиться к ветру и к дождю совершенно спокойно. Срываться нельзя. У
меня есть надежда, что «наверху» подожмут гайки, и многие непотребные вещи будут
запрещены. Я, например, за жесткую цензуру, за разумные ограничения. Но, к сожалению,
это не демократично, хотя если бы я был министром культуры, я бы почти все театры закрыл.
Этого я в себе и боюсь: если я сержусь, значит, я неправ.
«Юпитер, ты сердишься значит, ты неправ»?
Именно. Нужно отойти в сторону, дать дорогу молодым. И пускай разбираются сами со своей
жизнью, проблемами и амбициями, доказывают свою состоятельность — прежде всего
самим себе. А я не собираюсь никому ничего доказывать. Мне это не нужно. Я с этим
завязал. Господь бог дает каждому жизнь и смерть. Ты исчезнешь, и все твои проблемы
решены. Это все задумано очень толково.
Но жестоко.
Ну, что поделаешь? Надо в церковь ходить чаще. Там все объяснят. И спектакли должны
существовать такие, чтобы зритель мог задуматься о своей жизни. Все, что по поводу правил
жизни можно было сказать, уже сказано умными людьми — я себя к ним не отношу. А лучше
всего на любые вопросы отвечает музыка. Слушайте Чайковского. Читайте Екклесиаст.
«Исповедь» Толстого обязательно нужно прочесть, чтобы разобраться, что к чему, сравнить
себя с великими людьми, понять, на каком месте находишься. Как только начинаешь читать
Пушкина, понимаешь, какое ты дерьмо. «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и
томит меня тоскою однозначный жизни шум» — все сказано уже им. Все очень схоже, только
он — гений, а ты — никто. Именно поэтому «Маленькие трагедии» нужно играть так, как он
написал, а не так, как ощутил это режиссер. Чувства режиссера «мелко плавают», все
остальные органы видно. Я бы ни за что не пошел на новые версии «Евгения Онегина». Я не
большой поклонник экспериментов.
А если бы вас попросили написать книгу — не мемуары о себе в стиле «моя жизнь в искусстве», а, скажем, книгу, или хотя бы главу, об Алисе Бруновне Фрейндлих?
Я слишком дорожу нашими отношениями с Алисой Бруновной, чтобы на такое согласиться.
Вот сегодня вечером к ней пойду в гости — разбираться с жизнью. Она человек гибкий,
мягкий, воспринимает все совершенно спокойно. Давно я не слушал от нее хорошего совета.
Беседовала Мария Кингисепп
Ирина Мазуркевич: «Сыграть роль — значит понять человека»
«ВЕЧЕРНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», август 2018 г.
20 августа у ведущей актрисы Театра комедии им. Н.П. Акимова Ирины Мазуркевич 60-летний юбилей. К круглым датам и творческим вехам народная артистка России относится спокойно, если не сказать — равнодушно, поэтому беседа с корреспондентом «Вечерки» вышла, скорее, философской.
Ирина Степановна, публика любит и знает вас как прекрасную актрису. А сами вы какой зритель? Что смотрите по телевидению, в театре, какие любите фильмы?
Телевизор практически не смотрю довольно давно. Разве что какие-то публицистические передачи или чьи-то интервью. Кино — иногда, если кто-то что-то посоветует. А в театр похаживаю. Не могу сказать, что вот уж прямо часто-часто, но несколько раз в год случается.
Спектакли предпочитаете традиционные или экспериментальные?
Любые. Мне нравятся самые разные спектакли, я ко всему хорошо отношусь. И самые неожиданные, экспериментальные проекты меня не пугают — наоборот, мне это интересно. Но летом я мало бываю в городе, и меня тяжело бывает затащить в театр по разным причинам, а весной или осенью хожу, в том числе на фестивали.
В театральных кругах бытует мнение, что привозные спектакли зачастую глубже, серьезнее, содержательнее того, что идет в петербургском репертуаре...
Так откуда возникают фестивальные и гастрольные спектакли? Тоже из репертуаров театров. Но я-то как раз слышу противоположное мнение. Зрители нашего театра часто говорят, что у них в Москве (или в другом городе, откуда они приехали) нет таких спектаклей, как у нас. Им нравятся, что наши спектакли цельные, они вызывают отклик в зале. Вот вы спросили, какой я зритель. Я хожу в театр за эмоцией. Есть такая точка зрения, что артисты ходят на чужие спектакли, чтобы посмотреть, как не надо играть. Со мной такое тоже случается. Ведь время не стоит на месте, меняется способ актерского существования на сцене. И я, сидя в зале со зрителями, наблюдаю, что им нравится, а что — нет, отзываются ли они на чистую форму, или им важна рассказанная со сцены история, которой можно сопереживать.
А ваша зрительская эмоция от чего возникает?
От чего угодно. Это может быть восторг от того, как артисты играют — бывает, я и не ожидала, что тот или иной артист способен так раскрыться. Я по себе сужу, а мне часто говорят: «Ой, мы вас знаем по кино, но никогда раньше не видели в театре». А мои театральные работы вызывают удивление и восторг у публики, особенно у приезжих. Меня как зрителя тоже может восхитить интересная постановка или оригинальная форма. Я только не понимаю, почему некоторые режиссеры предлагают залу «разгадывать кроссворды». Конечно, есть жадные до впечатлений зрители, которым это по нраву, есть театральные критики, которые умеют читать текст спектакля и могут рассказать режиссеру, про что, собственно, его постановка. Но если режиссер сам не знает, что он имел в виду, то откуда же это может знать публика? Когда приходится ломать голову над происходящим на сцене и гадать, что бы это значило, становится скучно. Люди утомляются, им надоедает напрягаться, и тогда они уходят — в антракте или даже во время действия. И в следующий раз уже в театр не придут...
Принятие спектакля — это вопрос совпадения режиссерского видения и зрительских ожиданий?
Да, конечно. А еще новизна, свежесть, нетривиальный взгляд. В 1970-е годы, когда у нас в СССР был «железный занавес», некоторые наши именитые режиссеры имели возможность ездить за границу и смотреть там фильмы, а потом снимать здесь то, что удивляло нашего зрителя и казалось ему необычным. Та же история сейчас происходит со спектаклями, потому что театр сегодня менее доступен зрителю, чем кино. Российские режиссеры научились переносить на сцену подсмотренную на западе форму. Но форма и содержание — это совершенно разные вещи... На меня сильное впечатление произвели несколько последних фестивальных спектаклей, оставили след в душе. Например, немецкий режиссер Иво ван Хове очень интересно поставил две ранние пьесы Чехова «Иванов» и «Платонов», объединив их в один спектакль под названием «Русские!». Его привозил в прошлом году фестиваль «Балтийский дом». Это не бытовой театр, не формальное, механистическое исполнение, а чувственная игра актеров и глубокая режиссерская работа, которая вызывает у меня восхищение.
Вы можете работать с режиссером не «вашей группы крови»?
Нет, для меня это очень сложно. Но мне повезло в жизни. У меня практически такого не было, чтобы режиссер со мной «не совпадал». И даже если у нас поначалу случается недопонимание, я знаю, что надо потерпеть, преодолеть это, и в процессе работы возникнет внутренний контакт. Часто бывает, что ждешь чего-то, предвкушаешь — а оно не происходит. И наоборот: сколько раз в жизни я отказывалась от ролей, когда мне казалось, что это не мое, что это мне не нужно, а потом получала удовольствие и от работы, и от результата. И думала: ну, кто же, как не я, должен эту роль сыграть?.. Но это осознание приходит, когда роль уже сделана, когда ты ее выстрадал, столько для нее придумал, понял, почему твой персонаж жил и поступал именно так, когда ты принял судьбу своего персонажа. Сыграть роль — значит понять человека, почувствовать его. Некоторые артисты поэтому в процессе работы над ролью составляют целые тома, пишут биографии героев...
Такой способ работы возможен, если не суетиться. Теперь такое агрессивное время, такие скорости, такой поток информации — где уж там сесть, зарыться в материал, погрузиться в эпоху, в атмосферу, пойти в библиотеку... Но вы так делаете?
Я — делаю. Мало того, я до сих пор переписываю все роли.
В смысле?
Когда получаю текст роли, начинаю его переписывать от руки. Для меня это обязательно. Во-первых, роль так легче учится. Текст по-другому усваивается. Во-вторых, ты особым образом сосредотачиваешься, пока переписываешь. Я не могу читать текст роли в печатном виде — тогда все словно мимо меня проходит. А еще, когда пишешь, внутренне проговариваешь, примеряешь интонацию, и роль становится «своей». Любопытно, что мой почерк зависит от настроения и от характера моей героини. Если он суматошный, вздорный, стервозный, то получаются каракули. Я пишу так же, как она говорит, как бы в ее манере речи. По почерку можно понять, что происходит с человеком, что у него на душе творится. Если же героиня моя уравновешенная, степенная, то почерк у меня становится ровным, круглым, как у школьницы... Это все взаимосвязано. Раньше я не придавала этому значения, но когда возвращаюсь к какой-то роли, беру в руки свои записи спустя несколько лет, то недоумеваю: неужели это я писала?.. И ведь нельзя сказать, что это мой почерк в том или ином случае. Положи рядом несколько переписанных ролей, и не догадаешься, что это писал один и тот же человек... А вот Равикович (супруг актрисы народный артист России Анатолий Равикович ушел из жизни в 2012 году — Прим.ред.) не переписывал свои роли. Он делал пометки на распечатанных листах, чиркал там, рисовал профили свои...
Зато вы убедили его написать книгу — «Негероический герой».
Заставила. Чуть ли не силком. И получилась очень хорошая книга. Равик ведь сам писал, не наговаривал, не надиктовывал, как часто бывает. Он выверял практически каждое слово, проверял на слушателях. У него хороший литературный язык, он прекрасный рассказчик. Я уж не говорю про то, что это просто очень интересное чтение: берешь его книгу в руки, думаешь, вот сейчас начну, почитаю немножко на ночь... Но невозможно оторваться.
Что сейчас лежит на вашей прикроватной тумбочке?
А ничего сейчас не лежит. Разве что пьесы и ноутбук. Здесь я в чем-то повторяю Равика. Знаете, так интересно, когда ты проживаешь жизнь с человеком, который тебя на 20 лет старше, и потом повторяешь все, что он прошел и пережил — начиная с болезней и кончая впечатлениями... Бывало, я говорила: «Ой, Равик, что-то мне совсем не хочется играть...» Ну, наступает иногда такой момент, когда не можешь работать. А он отвечал: «Что-то рановато. У меня это позже началось»... А потом он говорил: «Не могу читать художественную литературу. Я уже все это знаю». Его в определенный период только беллетристика интересовала и какая-то научно-популярная литература. И еще политика.
Это, наверное, момент разгрузки — эмоциональной, ментальной... Когда ты не готов больше погружаться, тратить на чтение или общение моральные и физические силы. Хочется «выключить голову», посмотреть или почитать что-нибудь нейтральное, что позволит абстрагироваться, отдохнуть организму.
Именно так. Вот и у меня сейчас практически то же самое. Поэтому читаю пьесы, которые мне предлагают. Почему-то вдруг поэзией начала увлекаться. Стихи — единственное, что я сегодня читаю, помимо драматургии. Малые формы. Таким образом с новыми интересными людьми знакомишься. Раньше только если ты в книжке стихи прочитал, то видел: вот — поэт. А в наше время узнаешь в интернете, какие есть поэты. Они не издаются, у них просто потребность такая есть — писать стихи. Мне многие пишут в соцсетях: «А меня вы читали? А меня? Обратите на меня внимание!» Буквально каждый день. Видят, что я часто перепосты делаю со стихотворениями... Раньше я детективами зачитывалась, а сейчас даже детектив не идет. Иногда покупаю книги по привычке, хотя книг в доме уже столько, что кажется, что ты их все никогда не прочитаешь... Но то, что они есть, греет душу. Есть люди, которые говорят: «Книги — это не модно, они только пыль собирают». Но у меня просто нет сейчас потребности в чтении.
А с экрана телефона или планшета можете читать?
Нет. Не могу совсем. Только держать бумажную книгу в руках. С экрана читать не получается: не воспринимаю текст, да и глаза устают. Это «из той же оперы», что и роль не могу читать в распечатке — только переписанную от руки. А мои внуки любят пластинки слушать. У нас на даче старенький проигрыватель стоит. Внукам нравится сам процесс: узнать, как ставить пластинку, смотреть, как опускается иголка, слушать, как она шуршит...
Современные дети этого счастья, как правило, лишены. Им же чуть ли не при рождении дают планшет с готовыми мультиками и играми. А для ребенка так важно уметь включить воображение...
Поэтому я читаю внукам вслух. А еще пою колыбельные. Старший, Матвей, до сих пор просит. Он обожает песню из «Дульсинеи Тобосской» (один из музыкально-драматических «хитов» Театра им. Ленсовета, где Ирина Мазуркевич служила с 1977 по 1988 год — Прим.ред.): «Ночь Тобосская темна, только звезды и луна»... А в припеве слова: «У пастушки пастух, у пеструшки петух, у козлицы козел, у ослицы осел, только я, только я одино-ка-я»... Матвей смотрит на меня и спрашивает: «Бабуля, а ты одинокая?» И жалеть меня начинает...
Вы производите впечатление человека мудрого, уравновешенного. В чем находите гармонию?
А бог его знает... Мы же всю жизнь делаем выбор. У меня, видимо, развито элементарное, природное чувство самосохранения. Я не гонюсь за ролями — и мужа часто останавливала, потому что он как раз часто обижался на недостаточное количество ролей. Он был безмерно талантливым человеком, даже скажу — гениальным. Но он не был реализован до конца в работе, а мог бы сделать гораздо больше. Другое дело, что в последнее время у него было плохо со здоровьем. После спектакля выходил абсолютно «никакой», и ему надо было какое-то время посидеть, чтобы просто стронуться с места. И при этом все равно обижался, что мало работы! Мне приходилось его сдерживать, уравновешивать, убеждать. И книжка ведь возникла потому, что я хотела чем-то занять его... Я стараюсь в любой ситуации находить положительные моменты, и мужу пыталась помочь сохранить себя, продлить свою творческую и человеческую жизнь. Я никогда не была человеком, которому хочется топтать сцену без конца, просто лишь бы на ней покрасоваться. Мне надо, чтобы это имело смысл, чтобы это доставляло удовольствие — и зрителю, и мне самой. Наверное, это свойство и темпоритм провинциального человека... Вот мы совсем недавно выпустили премьеру «Бешеные деньги», еще прошло совсем мало времени, а мы сразу начали репетировать следующий спектакль. У меня такого давно не было, чтобы «из огня да в полымя», но роли так рядом легли — а я еще не успела соскучиться по работе.
Ирина Степановна, публика любит и знает вас как прекрасную актрису. А сами вы какой зритель? Что смотрите по телевидению, в театре, какие любите фильмы?
Телевизор практически не смотрю довольно давно. Разве что какие-то публицистические передачи или чьи-то интервью. Кино — иногда, если кто-то что-то посоветует. А в театр похаживаю. Не могу сказать, что вот уж прямо часто-часто, но несколько раз в год случается.
Спектакли предпочитаете традиционные или экспериментальные?
Любые. Мне нравятся самые разные спектакли, я ко всему хорошо отношусь. И самые неожиданные, экспериментальные проекты меня не пугают — наоборот, мне это интересно. Но летом я мало бываю в городе, и меня тяжело бывает затащить в театр по разным причинам, а весной или осенью хожу, в том числе на фестивали.
В театральных кругах бытует мнение, что привозные спектакли зачастую глубже, серьезнее, содержательнее того, что идет в петербургском репертуаре...
Так откуда возникают фестивальные и гастрольные спектакли? Тоже из репертуаров театров. Но я-то как раз слышу противоположное мнение. Зрители нашего театра часто говорят, что у них в Москве (или в другом городе, откуда они приехали) нет таких спектаклей, как у нас. Им нравятся, что наши спектакли цельные, они вызывают отклик в зале. Вот вы спросили, какой я зритель. Я хожу в театр за эмоцией. Есть такая точка зрения, что артисты ходят на чужие спектакли, чтобы посмотреть, как не надо играть. Со мной такое тоже случается. Ведь время не стоит на месте, меняется способ актерского существования на сцене. И я, сидя в зале со зрителями, наблюдаю, что им нравится, а что — нет, отзываются ли они на чистую форму, или им важна рассказанная со сцены история, которой можно сопереживать.
А ваша зрительская эмоция от чего возникает?
От чего угодно. Это может быть восторг от того, как артисты играют — бывает, я и не ожидала, что тот или иной артист способен так раскрыться. Я по себе сужу, а мне часто говорят: «Ой, мы вас знаем по кино, но никогда раньше не видели в театре». А мои театральные работы вызывают удивление и восторг у публики, особенно у приезжих. Меня как зрителя тоже может восхитить интересная постановка или оригинальная форма. Я только не понимаю, почему некоторые режиссеры предлагают залу «разгадывать кроссворды». Конечно, есть жадные до впечатлений зрители, которым это по нраву, есть театральные критики, которые умеют читать текст спектакля и могут рассказать режиссеру, про что, собственно, его постановка. Но если режиссер сам не знает, что он имел в виду, то откуда же это может знать публика? Когда приходится ломать голову над происходящим на сцене и гадать, что бы это значило, становится скучно. Люди утомляются, им надоедает напрягаться, и тогда они уходят — в антракте или даже во время действия. И в следующий раз уже в театр не придут...
Принятие спектакля — это вопрос совпадения режиссерского видения и зрительских ожиданий?
Да, конечно. А еще новизна, свежесть, нетривиальный взгляд. В 1970-е годы, когда у нас в СССР был «железный занавес», некоторые наши именитые режиссеры имели возможность ездить за границу и смотреть там фильмы, а потом снимать здесь то, что удивляло нашего зрителя и казалось ему необычным. Та же история сейчас происходит со спектаклями, потому что театр сегодня менее доступен зрителю, чем кино. Российские режиссеры научились переносить на сцену подсмотренную на западе форму. Но форма и содержание — это совершенно разные вещи... На меня сильное впечатление произвели несколько последних фестивальных спектаклей, оставили след в душе. Например, немецкий режиссер Иво ван Хове очень интересно поставил две ранние пьесы Чехова «Иванов» и «Платонов», объединив их в один спектакль под названием «Русские!». Его привозил в прошлом году фестиваль «Балтийский дом». Это не бытовой театр, не формальное, механистическое исполнение, а чувственная игра актеров и глубокая режиссерская работа, которая вызывает у меня восхищение.
Вы можете работать с режиссером не «вашей группы крови»?
Нет, для меня это очень сложно. Но мне повезло в жизни. У меня практически такого не было, чтобы режиссер со мной «не совпадал». И даже если у нас поначалу случается недопонимание, я знаю, что надо потерпеть, преодолеть это, и в процессе работы возникнет внутренний контакт. Часто бывает, что ждешь чего-то, предвкушаешь — а оно не происходит. И наоборот: сколько раз в жизни я отказывалась от ролей, когда мне казалось, что это не мое, что это мне не нужно, а потом получала удовольствие и от работы, и от результата. И думала: ну, кто же, как не я, должен эту роль сыграть?.. Но это осознание приходит, когда роль уже сделана, когда ты ее выстрадал, столько для нее придумал, понял, почему твой персонаж жил и поступал именно так, когда ты принял судьбу своего персонажа. Сыграть роль — значит понять человека, почувствовать его. Некоторые артисты поэтому в процессе работы над ролью составляют целые тома, пишут биографии героев...
Такой способ работы возможен, если не суетиться. Теперь такое агрессивное время, такие скорости, такой поток информации — где уж там сесть, зарыться в материал, погрузиться в эпоху, в атмосферу, пойти в библиотеку... Но вы так делаете?
Я — делаю. Мало того, я до сих пор переписываю все роли.
В смысле?
Когда получаю текст роли, начинаю его переписывать от руки. Для меня это обязательно. Во-первых, роль так легче учится. Текст по-другому усваивается. Во-вторых, ты особым образом сосредотачиваешься, пока переписываешь. Я не могу читать текст роли в печатном виде — тогда все словно мимо меня проходит. А еще, когда пишешь, внутренне проговариваешь, примеряешь интонацию, и роль становится «своей». Любопытно, что мой почерк зависит от настроения и от характера моей героини. Если он суматошный, вздорный, стервозный, то получаются каракули. Я пишу так же, как она говорит, как бы в ее манере речи. По почерку можно понять, что происходит с человеком, что у него на душе творится. Если же героиня моя уравновешенная, степенная, то почерк у меня становится ровным, круглым, как у школьницы... Это все взаимосвязано. Раньше я не придавала этому значения, но когда возвращаюсь к какой-то роли, беру в руки свои записи спустя несколько лет, то недоумеваю: неужели это я писала?.. И ведь нельзя сказать, что это мой почерк в том или ином случае. Положи рядом несколько переписанных ролей, и не догадаешься, что это писал один и тот же человек... А вот Равикович (супруг актрисы народный артист России Анатолий Равикович ушел из жизни в 2012 году — Прим.ред.) не переписывал свои роли. Он делал пометки на распечатанных листах, чиркал там, рисовал профили свои...
Зато вы убедили его написать книгу — «Негероический герой».
Заставила. Чуть ли не силком. И получилась очень хорошая книга. Равик ведь сам писал, не наговаривал, не надиктовывал, как часто бывает. Он выверял практически каждое слово, проверял на слушателях. У него хороший литературный язык, он прекрасный рассказчик. Я уж не говорю про то, что это просто очень интересное чтение: берешь его книгу в руки, думаешь, вот сейчас начну, почитаю немножко на ночь... Но невозможно оторваться.
Что сейчас лежит на вашей прикроватной тумбочке?
А ничего сейчас не лежит. Разве что пьесы и ноутбук. Здесь я в чем-то повторяю Равика. Знаете, так интересно, когда ты проживаешь жизнь с человеком, который тебя на 20 лет старше, и потом повторяешь все, что он прошел и пережил — начиная с болезней и кончая впечатлениями... Бывало, я говорила: «Ой, Равик, что-то мне совсем не хочется играть...» Ну, наступает иногда такой момент, когда не можешь работать. А он отвечал: «Что-то рановато. У меня это позже началось»... А потом он говорил: «Не могу читать художественную литературу. Я уже все это знаю». Его в определенный период только беллетристика интересовала и какая-то научно-популярная литература. И еще политика.
Это, наверное, момент разгрузки — эмоциональной, ментальной... Когда ты не готов больше погружаться, тратить на чтение или общение моральные и физические силы. Хочется «выключить голову», посмотреть или почитать что-нибудь нейтральное, что позволит абстрагироваться, отдохнуть организму.
Именно так. Вот и у меня сейчас практически то же самое. Поэтому читаю пьесы, которые мне предлагают. Почему-то вдруг поэзией начала увлекаться. Стихи — единственное, что я сегодня читаю, помимо драматургии. Малые формы. Таким образом с новыми интересными людьми знакомишься. Раньше только если ты в книжке стихи прочитал, то видел: вот — поэт. А в наше время узнаешь в интернете, какие есть поэты. Они не издаются, у них просто потребность такая есть — писать стихи. Мне многие пишут в соцсетях: «А меня вы читали? А меня? Обратите на меня внимание!» Буквально каждый день. Видят, что я часто перепосты делаю со стихотворениями... Раньше я детективами зачитывалась, а сейчас даже детектив не идет. Иногда покупаю книги по привычке, хотя книг в доме уже столько, что кажется, что ты их все никогда не прочитаешь... Но то, что они есть, греет душу. Есть люди, которые говорят: «Книги — это не модно, они только пыль собирают». Но у меня просто нет сейчас потребности в чтении.
А с экрана телефона или планшета можете читать?
Нет. Не могу совсем. Только держать бумажную книгу в руках. С экрана читать не получается: не воспринимаю текст, да и глаза устают. Это «из той же оперы», что и роль не могу читать в распечатке — только переписанную от руки. А мои внуки любят пластинки слушать. У нас на даче старенький проигрыватель стоит. Внукам нравится сам процесс: узнать, как ставить пластинку, смотреть, как опускается иголка, слушать, как она шуршит...
Современные дети этого счастья, как правило, лишены. Им же чуть ли не при рождении дают планшет с готовыми мультиками и играми. А для ребенка так важно уметь включить воображение...
Поэтому я читаю внукам вслух. А еще пою колыбельные. Старший, Матвей, до сих пор просит. Он обожает песню из «Дульсинеи Тобосской» (один из музыкально-драматических «хитов» Театра им. Ленсовета, где Ирина Мазуркевич служила с 1977 по 1988 год — Прим.ред.): «Ночь Тобосская темна, только звезды и луна»... А в припеве слова: «У пастушки пастух, у пеструшки петух, у козлицы козел, у ослицы осел, только я, только я одино-ка-я»... Матвей смотрит на меня и спрашивает: «Бабуля, а ты одинокая?» И жалеть меня начинает...
Вы производите впечатление человека мудрого, уравновешенного. В чем находите гармонию?
А бог его знает... Мы же всю жизнь делаем выбор. У меня, видимо, развито элементарное, природное чувство самосохранения. Я не гонюсь за ролями — и мужа часто останавливала, потому что он как раз часто обижался на недостаточное количество ролей. Он был безмерно талантливым человеком, даже скажу — гениальным. Но он не был реализован до конца в работе, а мог бы сделать гораздо больше. Другое дело, что в последнее время у него было плохо со здоровьем. После спектакля выходил абсолютно «никакой», и ему надо было какое-то время посидеть, чтобы просто стронуться с места. И при этом все равно обижался, что мало работы! Мне приходилось его сдерживать, уравновешивать, убеждать. И книжка ведь возникла потому, что я хотела чем-то занять его... Я стараюсь в любой ситуации находить положительные моменты, и мужу пыталась помочь сохранить себя, продлить свою творческую и человеческую жизнь. Я никогда не была человеком, которому хочется топтать сцену без конца, просто лишь бы на ней покрасоваться. Мне надо, чтобы это имело смысл, чтобы это доставляло удовольствие — и зрителю, и мне самой. Наверное, это свойство и темпоритм провинциального человека... Вот мы совсем недавно выпустили премьеру «Бешеные деньги», еще прошло совсем мало времени, а мы сразу начали репетировать следующий спектакль. У меня такого давно не было, чтобы «из огня да в полымя», но роли так рядом легли — а я еще не успела соскучиться по работе.
Ольга Антонова: «Берешь копье, надеваешь латы — и на сцену»
«СОБАКА.РУ», декабрь 2017
Стильная и тонкая актриса с истинно ленинградским характером отметит юбилей в лучших традициях своей профессиии: бенефисом в спектакле Дениса Хусниярова «Толстого нет» по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой, где сыграет супругу и музу великого русского писателя. Премьера состоится в декабре на сценах БДТ им. Г.А. Товстоногова и «Приюта комедианта».
Вы недавно посетили музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна» в компании режиссера и партнеров по будущему спектаклю. Целью было погрузиться в атмосферу?
Я уже в третий раз приезжаю в Ясную поляну, а впечатления все время новые. Сейчас на многое в имении я смотрю другими глазами, как бы природняюсь к месту, к предметам. Это восхитительно — ходить по этим тропиночкам и лестницам, сидеть на этих стульях, трогать эти книги, садиться за швейную машинку, на которой Софья Андреевна шила мужу рубашки из льна... Меня поражает ее скромность и «русскость» духа. Это же с ума можно сойти: пять раз переписывать «Войну и мир»! Да что переписывать — рассказать обо всех знакомых и родственниках, чтобы твой муж-писатель воплотил их в своем творчестве... Мне кажется, что моя героиня каждый раз что-то добавляла от себя, а Толстой не перечитывал и потому не замечал... Либо Софья была столь поэтична и ловка, что ей удавалось создавать большинство женских образов в его романах.
Можно ли назвать это соавторством?
Пожалуй, да. Ведь они с мужем говорили на одном языке и мыслили одинаково. И вдохновение к ним приходило от общения друг с другом. Поэтому они и рожали романы совместно, наравне с детьми... А к концу жизни Софья была растеряна и чувствовала себя преданной. У нее была сильная зависимость от мужа, накопленные обиды, ревность — не только к женщинам, но и к литературе. И она начала вычеркивать из дневников Толстого все, что было ей не по нраву, пока ее не остановила Александра Львовна. Это было не безумие, а, скорее, нервное потрясение... Но я считаю, что никто не вправе осуждать Софью: она имела на это моральное право. Муж должен был с ней посоветоваться, спросить ее разрешения, осознавая, что все написанное им останется в веках. Нельзя делать из личного публичное, обнародовать семейные дрязги, тем более что они вскоре вновь перейдут в любовь и дружбу.
Денис Хуснияров «идет» от вас, от вашего понимания образа?
С Денисом очень интересно разговаривать. Можно спорить и даже ссориться, но он умеет вдохновенно слушать и вдумчиво реагировать. Но даже если я вижу, что внутренне он со мной согласен, у него рождается свое мнение. Я эти режиссерские ходы и «толчки» знаю и просто жду, когда наши пути совпадут. Мне бы, дай бог, роль выучить к премьере — столько текста у моей Софьи Андреевны! К тому же перед выпуском каждого спектакля и во время самых первых показов я страшно нервничаю. У меня всегда ощущение, что я падаю в пропасть. И у всех артистов, у всех цехов на выпуске сплошная истерика. Никто не соображает, что делает — лишь бы в эту бурю выплыть... Но если артист не сомневается в своих способностях, он перестает быть убедительным. Свой внутренний трепет нужно уметь преодолеть. Как? Берешь в руки копье, надеваешь латы — и на сцену. И только спектакле на десятом выдыхаешь и чувствуешь, что можешь разоружиться, разбежаться и взлететь...
Это будет уже четвертая ваша работа в «Приюте комедианта» — после спектаклей «Старомодная комедия», «Недосягаемая» и «Пат, или Игра королей»?
Да. Я с наслаждением там играю. Обожаю камерные театры. В них можно говорить шепотом. Там каждый твой вздох или движение бровью принимается публикой. А главное — ты среди единомышленников. Это так согревает! Мне важно, чтобы и зритель выходил из зала не погасшим, а полным жизни, любви, нежности, добра и надежды, которую я могу ему подарить. А еще я не люблю, когда спектакль заканчивается смертью персонажей. Мне нравится вместе с публикой наслаждаться — красивыми декорациями, замечательной музыкой, умной режиссурой, чутким соитием актеров с постановщиком и с драматургом...
… или дружбой с руководством театра. Ведь с директором и худруком «Приюта» Виктором Минковым вы знакомы много лет.
Витя — мой самый преданный поклонник и действительно очень верный друг. Он называет меня «тетя Оля», а я его чуть ли не усыновила уже. Мы познакомились, когда ему было лет восемь: он ждал меня вместе с бабушкой на служебном входе после спектакля. И это дитя, дрожа и подпрыгивая от волнения, кричало: «Вот она, самая прекрасная женщина на свете, моя любимая актриса!» Он приходил на все мои премьеры. А однажды спросил, что бы я хотела получить в подарок. Кто-то из коллег, пробегая мимо, сказал: «Она любит торт «Наполеон». И Витина бабушка мне его испекла и принесла... Когда я ушла из Театра комедии, Минков был первым, кто позвонил мне и предложил работу: кучу пьес на выбор.
Уход из Комедии был сложным и болезненным решением?
Нет, решение было спокойным и осознанным, потому что наш с этим театром поезд уже давно никуда не ехал, и рельсы стали ржавыми. Но я была уверена, что уйду — и умру сразу. Я же родилась и выросла в этом доме на углу Невского и Малой Садовой, прожила и проработала там полвека. Но когда вышла на улицу и закрыла за собой дверь, почувствовала, что сердце у меня не ёкает, а радостно колышется. Я вдохнула полной грудью и подумала: неужели я теперь могу делать что хочу и с кем хочу? На меня снизошла благость, когда я поняла, что стала хозяйкой своей жизни, своего организма, своего вдохновения. Хочу — пол подметаю, хочу — кукол леплю и обшиваю (В коллекции Ольги Антоновой несколько сотен кукол — Прим.ред.). И никто теперь не имеет права сказать мне «ты обязана» или «ты здесь никто» — а чего только не приходилось выслушивать в надежде получить роль! Меня примиряло с действительностью только осознание своего предназначения. Я всегда знала, что когда в зале погаснет свет, я выйду на сцену и сделаю свою работу, которая нужна людям. Это такое счастье — видеть лица зрителей, которые смотря на тебя с благодарностью! Ради этого можно было выдержать любые испытания. Но сколько можно через это проходить? Хочется не искать ни в чьих глазах одобрения, а работать в состоянии покоя и в свое удовольствие — вот как сейчас, когда знаешь, что тебе в любой момент протянут руку. Я испытывала это чувство с разными режиссерами и актерами, в том числе и в Театре комедии.
А в каких отношениях вы были с ведущей актрисой этого театра Еленой Юнгер, женой выдающегося режиссера и художника Николая Акимова? Все-таки прима, а им обычно свойственны высокомерие и капризный нрав.
С Юнгер у нас были ровные, спокойные отношения. Она была такой рафинированной интеллигенткой прекрасной послевоенной эпохи. Мы с ней играли, например, в спектакле «Сваха»: там она была очень хороша, умна, красива, элегантна и добра.
Это на сцене. А за кулисами?
И за кулисами тоже. У нее было удивительное чувство меры. Она не позволяла себе проявлять недовольство или обиду. Была со всеми доброжелательной и сдержанной — пример редкой благовоспитанности и внутренней культуры. Потрясающая деликатность, достоинство, завидная выдержка. Обаятельная женщина, она чутко оберегала свое личное пространство и держала дистанцию: к ней невозможно было запросто подойти и обнять — ты словно спотыкался о невидимую преграду. И никогда никаких сплетен, склок и интриг! Невозможно было представить, чтобы она с кем-то когда-то что-то обсуждала или, скажем, оскорбила гримершу... Услышать из ее уст гневное или неприличное слово было немыслимо.
Похожим характером и врожденной интеллигентностью обладал и Игорь Дмитриев.
Я с нежностью вспоминаю и Гену Воропаева, и Веру Карпову, и Свету Карпинскую... Но Игоря — с особенной теплотой. Мы с ним много работали вместе и крепко дружили. Это был величайший актер, к сожалению, недооцененный при жизни, а потому на какое-то время потерянный для зрителя. Он обладал невероятнейшей амплитудой, но роли ему доставались однотипные. Он мог, например, в «Зойкиной квартире» Аметистова так убойно сыграть, что зал бы лежал у его ног! Но о нем даже не подумали, когда делали распределение... В этом актере было всё, и в кино это «всё» проявилось, пусть и частично, а в театре — нет. Очень жаль. Мне так не хватает его голоса, который моментально всех и всюду покорял, его образа трепетного героя-любовника, его удивительной артикуляции, его интонаций, от которых невозможно было оторваться, и его высокой правды. Но я храню его стихотворения.
А еще он был не только всесторонне одаренным, но и весьма образованным человеком.
Еще каким! Ценитель и знаток живописи, литературы, архитектуры, музыки... А сколько он знал стихов! А сколько анекдотов! При этом в быту это был совершенно нетребовательный человек, несмотря на свой стиль, на свою стать, изящество, безупречность буквально во всем. Знаете, когда все вокруг строили загородные дома, Игорь обзавелся скромной избушкой, крошечной, но очень чистенькой и опрятной. Такой домик-пряник из сказки братьев Гримм. И не нужен ему был замок с камином, все эти сады-огороды, гектары и заборы... Его эта избушка абсолютно устраивала. Но выглядел он в ней так, будто за дверью притаился штат вышколенной прислуги, которая вот-вот войдет, идеально накроет стол по всем правилам этикета и бесшумно удалится в величайшем почтении...
Вашему изяществу, безупречному стилю и умению элегантно одеваться завидовали ленинградские дамы из числа высокопоставленной партийной элиты. Нынешние петербургские модницы копируют фасоны ваших шляпок. Говорят, заграничные наряды вам привозил муж, художник и сценограф Игорь Иванов, из гастрольных поездок с Кировским театром?
Это и так, и не так... Муж действительно что-то из одежды привозил мне из-за границы, но суточные были крошечными, их хватало на одну, максимум на две вещицы. Но я умела даже из совершенно не подходящих друг к другу предметов гардероба составить гармоничный ансамбль, подобрать что-то «для полного комплекта» или сделать своими руками.
Вы шили и вязали?
И шила, и вязала, и клеила. Даже обувь сочиняла себе сама. Например, если туфли или сапоги были остроносыми, как лыжи, то я их обрезала, а потом обрабатывала так, что никто ни о чем не догадывался. Поэтому я и кукол своих сама одеваю и обуваю, и шляпку могу смастерить из чего угодно. Не хочу хвастаться, но я и правда умею очень многое: хоть кран починить, хоть картину повесить. Так что уж тряпки я всегда умела рукотворно облагородить. Конечно, я советовалась с Игорем. Но когда он иногда говорил «нет», а я все равно делала по-своему, я почти всегда выигрывала. Женщины же иначе смотрят на вещи и на себя в них. Мы знаем свои недостатки и умеем их скрыть, чтобы показать то, чем нам хочется похвастаться.
а еще важно знать, что
Народная артистка России Ольга Сергеевна Антонова, дочь писателя Сергея Антонова, училась на курсе Бориса Зона в ЛГИТМиКе (ныне РГИСИ), где затем преподавала актерское мастерство. Кавалер Ордена Почета, лауреат театральной премии «Золотой софит» 50 лет прослужила в Театре комедии им. Н.П. Акимова, где сыграла около 30 ролей. Выходила на сцены театров «Приют комедианта», «Дом», «Русская антреприза» им. Андрея Миронрова и Театра им. Ленсовета, играла в спектаклях Николая Акимова, Петра Фоменко, Романа Виктюка, Игоря Коняева, Григория Козлова, Геннадия Тростянецкого, Льва Стукалова. Дебютировала в кино в телефильме Петра Фоменко «Почти смешная история» (1977). Фильмография актрисы насчитывает более 30 работ, а широкую известность и кинопремии ей принесли роли в картинах Киры Муратовой «Астенический синдром» (1990), Карена Шахназарова «Цареубийца» (1991) и «Незабудки» Льва Кулиджанова (1994).
Вы недавно посетили музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна» в компании режиссера и партнеров по будущему спектаклю. Целью было погрузиться в атмосферу?
Я уже в третий раз приезжаю в Ясную поляну, а впечатления все время новые. Сейчас на многое в имении я смотрю другими глазами, как бы природняюсь к месту, к предметам. Это восхитительно — ходить по этим тропиночкам и лестницам, сидеть на этих стульях, трогать эти книги, садиться за швейную машинку, на которой Софья Андреевна шила мужу рубашки из льна... Меня поражает ее скромность и «русскость» духа. Это же с ума можно сойти: пять раз переписывать «Войну и мир»! Да что переписывать — рассказать обо всех знакомых и родственниках, чтобы твой муж-писатель воплотил их в своем творчестве... Мне кажется, что моя героиня каждый раз что-то добавляла от себя, а Толстой не перечитывал и потому не замечал... Либо Софья была столь поэтична и ловка, что ей удавалось создавать большинство женских образов в его романах.
Можно ли назвать это соавторством?
Пожалуй, да. Ведь они с мужем говорили на одном языке и мыслили одинаково. И вдохновение к ним приходило от общения друг с другом. Поэтому они и рожали романы совместно, наравне с детьми... А к концу жизни Софья была растеряна и чувствовала себя преданной. У нее была сильная зависимость от мужа, накопленные обиды, ревность — не только к женщинам, но и к литературе. И она начала вычеркивать из дневников Толстого все, что было ей не по нраву, пока ее не остановила Александра Львовна. Это было не безумие, а, скорее, нервное потрясение... Но я считаю, что никто не вправе осуждать Софью: она имела на это моральное право. Муж должен был с ней посоветоваться, спросить ее разрешения, осознавая, что все написанное им останется в веках. Нельзя делать из личного публичное, обнародовать семейные дрязги, тем более что они вскоре вновь перейдут в любовь и дружбу.
Денис Хуснияров «идет» от вас, от вашего понимания образа?
С Денисом очень интересно разговаривать. Можно спорить и даже ссориться, но он умеет вдохновенно слушать и вдумчиво реагировать. Но даже если я вижу, что внутренне он со мной согласен, у него рождается свое мнение. Я эти режиссерские ходы и «толчки» знаю и просто жду, когда наши пути совпадут. Мне бы, дай бог, роль выучить к премьере — столько текста у моей Софьи Андреевны! К тому же перед выпуском каждого спектакля и во время самых первых показов я страшно нервничаю. У меня всегда ощущение, что я падаю в пропасть. И у всех артистов, у всех цехов на выпуске сплошная истерика. Никто не соображает, что делает — лишь бы в эту бурю выплыть... Но если артист не сомневается в своих способностях, он перестает быть убедительным. Свой внутренний трепет нужно уметь преодолеть. Как? Берешь в руки копье, надеваешь латы — и на сцену. И только спектакле на десятом выдыхаешь и чувствуешь, что можешь разоружиться, разбежаться и взлететь...
Это будет уже четвертая ваша работа в «Приюте комедианта» — после спектаклей «Старомодная комедия», «Недосягаемая» и «Пат, или Игра королей»?
Да. Я с наслаждением там играю. Обожаю камерные театры. В них можно говорить шепотом. Там каждый твой вздох или движение бровью принимается публикой. А главное — ты среди единомышленников. Это так согревает! Мне важно, чтобы и зритель выходил из зала не погасшим, а полным жизни, любви, нежности, добра и надежды, которую я могу ему подарить. А еще я не люблю, когда спектакль заканчивается смертью персонажей. Мне нравится вместе с публикой наслаждаться — красивыми декорациями, замечательной музыкой, умной режиссурой, чутким соитием актеров с постановщиком и с драматургом...
… или дружбой с руководством театра. Ведь с директором и худруком «Приюта» Виктором Минковым вы знакомы много лет.
Витя — мой самый преданный поклонник и действительно очень верный друг. Он называет меня «тетя Оля», а я его чуть ли не усыновила уже. Мы познакомились, когда ему было лет восемь: он ждал меня вместе с бабушкой на служебном входе после спектакля. И это дитя, дрожа и подпрыгивая от волнения, кричало: «Вот она, самая прекрасная женщина на свете, моя любимая актриса!» Он приходил на все мои премьеры. А однажды спросил, что бы я хотела получить в подарок. Кто-то из коллег, пробегая мимо, сказал: «Она любит торт «Наполеон». И Витина бабушка мне его испекла и принесла... Когда я ушла из Театра комедии, Минков был первым, кто позвонил мне и предложил работу: кучу пьес на выбор.
Уход из Комедии был сложным и болезненным решением?
Нет, решение было спокойным и осознанным, потому что наш с этим театром поезд уже давно никуда не ехал, и рельсы стали ржавыми. Но я была уверена, что уйду — и умру сразу. Я же родилась и выросла в этом доме на углу Невского и Малой Садовой, прожила и проработала там полвека. Но когда вышла на улицу и закрыла за собой дверь, почувствовала, что сердце у меня не ёкает, а радостно колышется. Я вдохнула полной грудью и подумала: неужели я теперь могу делать что хочу и с кем хочу? На меня снизошла благость, когда я поняла, что стала хозяйкой своей жизни, своего организма, своего вдохновения. Хочу — пол подметаю, хочу — кукол леплю и обшиваю (В коллекции Ольги Антоновой несколько сотен кукол — Прим.ред.). И никто теперь не имеет права сказать мне «ты обязана» или «ты здесь никто» — а чего только не приходилось выслушивать в надежде получить роль! Меня примиряло с действительностью только осознание своего предназначения. Я всегда знала, что когда в зале погаснет свет, я выйду на сцену и сделаю свою работу, которая нужна людям. Это такое счастье — видеть лица зрителей, которые смотря на тебя с благодарностью! Ради этого можно было выдержать любые испытания. Но сколько можно через это проходить? Хочется не искать ни в чьих глазах одобрения, а работать в состоянии покоя и в свое удовольствие — вот как сейчас, когда знаешь, что тебе в любой момент протянут руку. Я испытывала это чувство с разными режиссерами и актерами, в том числе и в Театре комедии.
А в каких отношениях вы были с ведущей актрисой этого театра Еленой Юнгер, женой выдающегося режиссера и художника Николая Акимова? Все-таки прима, а им обычно свойственны высокомерие и капризный нрав.
С Юнгер у нас были ровные, спокойные отношения. Она была такой рафинированной интеллигенткой прекрасной послевоенной эпохи. Мы с ней играли, например, в спектакле «Сваха»: там она была очень хороша, умна, красива, элегантна и добра.
Это на сцене. А за кулисами?
И за кулисами тоже. У нее было удивительное чувство меры. Она не позволяла себе проявлять недовольство или обиду. Была со всеми доброжелательной и сдержанной — пример редкой благовоспитанности и внутренней культуры. Потрясающая деликатность, достоинство, завидная выдержка. Обаятельная женщина, она чутко оберегала свое личное пространство и держала дистанцию: к ней невозможно было запросто подойти и обнять — ты словно спотыкался о невидимую преграду. И никогда никаких сплетен, склок и интриг! Невозможно было представить, чтобы она с кем-то когда-то что-то обсуждала или, скажем, оскорбила гримершу... Услышать из ее уст гневное или неприличное слово было немыслимо.
Похожим характером и врожденной интеллигентностью обладал и Игорь Дмитриев.
Я с нежностью вспоминаю и Гену Воропаева, и Веру Карпову, и Свету Карпинскую... Но Игоря — с особенной теплотой. Мы с ним много работали вместе и крепко дружили. Это был величайший актер, к сожалению, недооцененный при жизни, а потому на какое-то время потерянный для зрителя. Он обладал невероятнейшей амплитудой, но роли ему доставались однотипные. Он мог, например, в «Зойкиной квартире» Аметистова так убойно сыграть, что зал бы лежал у его ног! Но о нем даже не подумали, когда делали распределение... В этом актере было всё, и в кино это «всё» проявилось, пусть и частично, а в театре — нет. Очень жаль. Мне так не хватает его голоса, который моментально всех и всюду покорял, его образа трепетного героя-любовника, его удивительной артикуляции, его интонаций, от которых невозможно было оторваться, и его высокой правды. Но я храню его стихотворения.
А еще он был не только всесторонне одаренным, но и весьма образованным человеком.
Еще каким! Ценитель и знаток живописи, литературы, архитектуры, музыки... А сколько он знал стихов! А сколько анекдотов! При этом в быту это был совершенно нетребовательный человек, несмотря на свой стиль, на свою стать, изящество, безупречность буквально во всем. Знаете, когда все вокруг строили загородные дома, Игорь обзавелся скромной избушкой, крошечной, но очень чистенькой и опрятной. Такой домик-пряник из сказки братьев Гримм. И не нужен ему был замок с камином, все эти сады-огороды, гектары и заборы... Его эта избушка абсолютно устраивала. Но выглядел он в ней так, будто за дверью притаился штат вышколенной прислуги, которая вот-вот войдет, идеально накроет стол по всем правилам этикета и бесшумно удалится в величайшем почтении...
Вашему изяществу, безупречному стилю и умению элегантно одеваться завидовали ленинградские дамы из числа высокопоставленной партийной элиты. Нынешние петербургские модницы копируют фасоны ваших шляпок. Говорят, заграничные наряды вам привозил муж, художник и сценограф Игорь Иванов, из гастрольных поездок с Кировским театром?
Это и так, и не так... Муж действительно что-то из одежды привозил мне из-за границы, но суточные были крошечными, их хватало на одну, максимум на две вещицы. Но я умела даже из совершенно не подходящих друг к другу предметов гардероба составить гармоничный ансамбль, подобрать что-то «для полного комплекта» или сделать своими руками.
Вы шили и вязали?
И шила, и вязала, и клеила. Даже обувь сочиняла себе сама. Например, если туфли или сапоги были остроносыми, как лыжи, то я их обрезала, а потом обрабатывала так, что никто ни о чем не догадывался. Поэтому я и кукол своих сама одеваю и обуваю, и шляпку могу смастерить из чего угодно. Не хочу хвастаться, но я и правда умею очень многое: хоть кран починить, хоть картину повесить. Так что уж тряпки я всегда умела рукотворно облагородить. Конечно, я советовалась с Игорем. Но когда он иногда говорил «нет», а я все равно делала по-своему, я почти всегда выигрывала. Женщины же иначе смотрят на вещи и на себя в них. Мы знаем свои недостатки и умеем их скрыть, чтобы показать то, чем нам хочется похвастаться.
а еще важно знать, что
Народная артистка России Ольга Сергеевна Антонова, дочь писателя Сергея Антонова, училась на курсе Бориса Зона в ЛГИТМиКе (ныне РГИСИ), где затем преподавала актерское мастерство. Кавалер Ордена Почета, лауреат театральной премии «Золотой софит» 50 лет прослужила в Театре комедии им. Н.П. Акимова, где сыграла около 30 ролей. Выходила на сцены театров «Приют комедианта», «Дом», «Русская антреприза» им. Андрея Миронрова и Театра им. Ленсовета, играла в спектаклях Николая Акимова, Петра Фоменко, Романа Виктюка, Игоря Коняева, Григория Козлова, Геннадия Тростянецкого, Льва Стукалова. Дебютировала в кино в телефильме Петра Фоменко «Почти смешная история» (1977). Фильмография актрисы насчитывает более 30 работ, а широкую известность и кинопремии ей принесли роли в картинах Киры Муратовой «Астенический синдром» (1990), Карена Шахназарова «Цареубийца» (1991) и «Незабудки» Льва Кулиджанова (1994).
Авдотья Смирнова: «Режиссер — это человек воли»
«СОБАКА.РУ», май 2013
Ваша картина «Кококо» получила и признание зрителей, и призы на солидных кинофестивалях. Как вы относитесь к всевозможным наградам?
Закончив картину, очень ждешь мнения коллег, и тогда радуют призы или огорчает их отсутствие. Однако это длится максимум месяц после премьеры, а потом я довольно быстро забываю об этом, но мне всегда очень хочется, чтобы оценили работу моих друзей: актеров, сценариста Ани Пармас, художников, оператора Максима Осадчего, звукорежиссера Льва Ежова. И когда кажется, что их работа не получила должного одобрения, я обижаюсь намного сильнее, чем за себя. Бывает горько думать, что неприязнь некоторых людей ко мне лично лишает моих необыкновенно талантливых товарищей заслуженного успеха.
Что такое интеллигенция, которой вы посвятили уже несколько фильмов?
Я не философ и не историк, поэтому не даю никаких определений. А про интеллигенцию я, честное слово, перестала что-либо понимать. Свое сословие и люблю, и ненавижу одновременно.
Но «определить» себя в плане самоидентификации можете?
Ну, сословно я, видимо, полуинтеллигент-полубогема. Для настоящего интеллигента я слишком экстравагантна, для настоящей богемы — слишком трудолюбива. Считаю себя хорошим сценаристом и более-менее крепким режиссером. И хотя режиссура моя пока далека от того уровня, которого хотелось бы достичь, этот уровень, мне кажется, несколько повышается от фильма к фильму. Есть вещи, которыми я горжусь, — работа с актерами, например. Есть то, что меня удручает, — скажем, банальность мизансцен.
Делите ли вы режиссуру на мужскую и женскую?
Режиссер и у нас, и в любой другой стране — это человек воли. Без воли нет режиссера, а мужчина это или женщина, не имеет значения. Все замечательные женщины-режиссеры — Кира Муратова, Марина Разбежкина, Любовь Аркус, Валерия Гай Германика, Ангелина Никонова — обладают исключительной волей.
Изменились ли вы и ваше творчество в связи с новым семейным статусом?
Я не думаю о себе в таких выражениях: «творчество», «самореализация»... Это, по-моему, лексикон Ирины Аллегровой. На мой взгляд, единственное, что объединяет Елену Ваенгу и Pussy Riot, — это способность произнести словосочетание «мое творчество».
Хорошо, вы и ваша работа.
Я не знаю, изменилась ли я, — человеку трудно судить о себе. Друзья говорят, что я стала мягче и спокойнее. Рада, если это так: человек с возрастом должен становиться мягче и спокойнее. Я любила свое одиночество, теперь люблю свою семейную жизнь, люблю своих друзей и свою работу. Сын вообще мой лучший друг. А по поводу нового статуса могу только сказать, что я замужем за самым благородным, умным, заботливым, щедрым, глубоким и обаятельным мужчиной, которого вообще видела в жизни. Такой вот у меня статус.
В прошлом году вы с друзьями и коллегами создали благотворительный фонд «Выход», посвященный проблемам аутизма в России. Почему вы стали этим заниматься?
Началось все, конечно, с Любы Аркус. Хотя нет, хронологически было не так. Сначала я познакомилась с Катей Мень, журналисткой и мамой аутичного Платона. Катя человек исключительно умный и блестящий, она умеет рассказывать о психоневрологических завихрениях с увлекательностью Агаты Кристи, и меня ее рассказы поразили. Катя давно хотела сделать фонд и предложила мне этим заняться. Но я не чувствовала в себе ни сил, ни хотя бы элементарных знаний для этого. Потом Люба Аркус, мой очень близкий друг на протяжении многих лет, начала снимать свой фильм и заниматься судьбой Антона Харитонова. Люба обладает такой сильной интеллектуальной и эмоциональной энергией, что может заразить окружающих ее людей чем угодно. Если она заинтересуется межпланетными путешествиями, то мы, ее друзья, начнем безропотно собираться на Марс: поскольку она все равно нас туда увезет, так зачем тратить время на сомнения и споры? Судьба самого Антона была очень драматична, но материал фильма о нем просто потрясал. Люба делала картину четыре года, и за это время многие из нас познакомились с родителями детей-аутистов, со взрослыми аутистами. У Любы, кстати, в полуготовом виде лежит фильм о родителях, едва ли не более сильный, чем «Антон тут рядом». Положение этих людей — и детей, и взрослых — отчаянное, душераздирающее, нестерпимое. В ходе этого общения и возникло убеждение, что нужно делать фонд, причем срочно.
Как он действует?
Фонд пока не занимается адресной помощью семьям, да это было бы и неправильно. Мы хотим помочь государству построить с нуля систему поддержки аутистов. Сегодня для них нет ничего: ни диагностики, ни коррекционных методик, нет даже статистики, поскольку некому ее вести. То есть делать надо все, сразу и одновременно. Мы создали сайт www.outfund.ru, очень, по-моему, удачный, где много информации, до нас на русском языке не публиковавшейся. Переводим сейчас два основополагающих труда по АВА-терапии — терапии, основанной на поведенческом анализе, которая является золотым стандартом коррекции аутистов. Фактически это учебники, по которым можно будет потом обучать студентов новой специальности. Добиваемся внесения этих специальностей — например, поведенческий терапевт — в государственный реестр. Провели большой семинар для врачей и родителей в Воронеже, международную конференцию в Москве, профинансировали существование двух классов для аутистов в двух школах — много чего. На сайте есть вся информация о том, что мы делаем и как подать нам заявку.
Фонд — это тоже ваша работа?
Конечно. Очень непростая, иногда доводящая до слез и уныния, но очень для меня нужная.
Закончив картину, очень ждешь мнения коллег, и тогда радуют призы или огорчает их отсутствие. Однако это длится максимум месяц после премьеры, а потом я довольно быстро забываю об этом, но мне всегда очень хочется, чтобы оценили работу моих друзей: актеров, сценариста Ани Пармас, художников, оператора Максима Осадчего, звукорежиссера Льва Ежова. И когда кажется, что их работа не получила должного одобрения, я обижаюсь намного сильнее, чем за себя. Бывает горько думать, что неприязнь некоторых людей ко мне лично лишает моих необыкновенно талантливых товарищей заслуженного успеха.
Что такое интеллигенция, которой вы посвятили уже несколько фильмов?
Я не философ и не историк, поэтому не даю никаких определений. А про интеллигенцию я, честное слово, перестала что-либо понимать. Свое сословие и люблю, и ненавижу одновременно.
Но «определить» себя в плане самоидентификации можете?
Ну, сословно я, видимо, полуинтеллигент-полубогема. Для настоящего интеллигента я слишком экстравагантна, для настоящей богемы — слишком трудолюбива. Считаю себя хорошим сценаристом и более-менее крепким режиссером. И хотя режиссура моя пока далека от того уровня, которого хотелось бы достичь, этот уровень, мне кажется, несколько повышается от фильма к фильму. Есть вещи, которыми я горжусь, — работа с актерами, например. Есть то, что меня удручает, — скажем, банальность мизансцен.
Делите ли вы режиссуру на мужскую и женскую?
Режиссер и у нас, и в любой другой стране — это человек воли. Без воли нет режиссера, а мужчина это или женщина, не имеет значения. Все замечательные женщины-режиссеры — Кира Муратова, Марина Разбежкина, Любовь Аркус, Валерия Гай Германика, Ангелина Никонова — обладают исключительной волей.
Изменились ли вы и ваше творчество в связи с новым семейным статусом?
Я не думаю о себе в таких выражениях: «творчество», «самореализация»... Это, по-моему, лексикон Ирины Аллегровой. На мой взгляд, единственное, что объединяет Елену Ваенгу и Pussy Riot, — это способность произнести словосочетание «мое творчество».
Хорошо, вы и ваша работа.
Я не знаю, изменилась ли я, — человеку трудно судить о себе. Друзья говорят, что я стала мягче и спокойнее. Рада, если это так: человек с возрастом должен становиться мягче и спокойнее. Я любила свое одиночество, теперь люблю свою семейную жизнь, люблю своих друзей и свою работу. Сын вообще мой лучший друг. А по поводу нового статуса могу только сказать, что я замужем за самым благородным, умным, заботливым, щедрым, глубоким и обаятельным мужчиной, которого вообще видела в жизни. Такой вот у меня статус.
В прошлом году вы с друзьями и коллегами создали благотворительный фонд «Выход», посвященный проблемам аутизма в России. Почему вы стали этим заниматься?
Началось все, конечно, с Любы Аркус. Хотя нет, хронологически было не так. Сначала я познакомилась с Катей Мень, журналисткой и мамой аутичного Платона. Катя человек исключительно умный и блестящий, она умеет рассказывать о психоневрологических завихрениях с увлекательностью Агаты Кристи, и меня ее рассказы поразили. Катя давно хотела сделать фонд и предложила мне этим заняться. Но я не чувствовала в себе ни сил, ни хотя бы элементарных знаний для этого. Потом Люба Аркус, мой очень близкий друг на протяжении многих лет, начала снимать свой фильм и заниматься судьбой Антона Харитонова. Люба обладает такой сильной интеллектуальной и эмоциональной энергией, что может заразить окружающих ее людей чем угодно. Если она заинтересуется межпланетными путешествиями, то мы, ее друзья, начнем безропотно собираться на Марс: поскольку она все равно нас туда увезет, так зачем тратить время на сомнения и споры? Судьба самого Антона была очень драматична, но материал фильма о нем просто потрясал. Люба делала картину четыре года, и за это время многие из нас познакомились с родителями детей-аутистов, со взрослыми аутистами. У Любы, кстати, в полуготовом виде лежит фильм о родителях, едва ли не более сильный, чем «Антон тут рядом». Положение этих людей — и детей, и взрослых — отчаянное, душераздирающее, нестерпимое. В ходе этого общения и возникло убеждение, что нужно делать фонд, причем срочно.
Как он действует?
Фонд пока не занимается адресной помощью семьям, да это было бы и неправильно. Мы хотим помочь государству построить с нуля систему поддержки аутистов. Сегодня для них нет ничего: ни диагностики, ни коррекционных методик, нет даже статистики, поскольку некому ее вести. То есть делать надо все, сразу и одновременно. Мы создали сайт www.outfund.ru, очень, по-моему, удачный, где много информации, до нас на русском языке не публиковавшейся. Переводим сейчас два основополагающих труда по АВА-терапии — терапии, основанной на поведенческом анализе, которая является золотым стандартом коррекции аутистов. Фактически это учебники, по которым можно будет потом обучать студентов новой специальности. Добиваемся внесения этих специальностей — например, поведенческий терапевт — в государственный реестр. Провели большой семинар для врачей и родителей в Воронеже, международную конференцию в Москве, профинансировали существование двух классов для аутистов в двух школах — много чего. На сайте есть вся информация о том, что мы делаем и как подать нам заявку.
Фонд — это тоже ваша работа?
Конечно. Очень непростая, иногда доводящая до слез и уныния, но очень для меня нужная.
Рикке Хелмс: «Русский язык звучал для меня как музыка»
«НЕВСКОЕ ВРЕМЯ», февраль 2008
Датский институт культуры в Петербурге – это просторная квартира на Мойке с балконом и потрясающим видом из окна. Конечно, это офис с приемной, конференц-залом и кабинетом директора. Но приветливые сотрудники и желанные гости воспринимают это помещение как дом: уютный, радушный, со вкусом оформленный и с любовью обставленный. Но без 60-летней Рикке Хелмс, обаятельной энергичной женщины, которой ни за что не дашь больше сорока, жизнь не била бы здесь таким бурным ключом, а проекты не были бы столь прекрасны.
«Как красиво звучит русский язык»
Рикке заботливо угощает кофе, слегка флиртует с фотографом и трогательно волнуется перед съемкой. Рассказывает, как торопилась утром и забыла косметичку, и теперь в ее сумке только помада. Спрашивает, оставить ли ей на плечах «этот смешной платок», и хвастается дизайнерской брошью немыслимой красоты: датские ювелиры и дизайнеры, чью выставку Рикке организует, делают стильные вещи… из промышленных отходов.
В этот петербургский офис приходят исключительно творческие личности с оригинальными идеями. Рикке всех привечает, внимательно выслушивает и всем помогает. Она находила и возила в Данию русских художников, шоу моды, дизайнеров шляп и шуб, которые датчанки с удовольствием раскупали, кукольные театры. Осенью Рикке затеяла «Органный караван»: ездили по концертным залам, где есть органы, давали концерты и попутно исследовали инструменты. В июне грядет фестиваль профессиональных хоров из стран Балтии, в июле – «Балтийский бьеннале». Подали заявку на организацию международного летнего лагеря под Сестрорецком: 10 дней, 20 датчан, 20 финнов и 20 русских от 14 до 18 лет, общение только на английском.
До того как стать директором, Рикке была на родине преподавателем литературы, английского, немецкого и русского языков, проходила практику в Ленинградском университете при Брежневе, а при Горбачеве работала по контракту в университете московском.
– Недавно я выступала с докладом «За что я люблю Россию?». Вместе с профессором русской истории и личным переводчиком нашей королевы делилась с датской аудиторией мыслями и впечатлениями. Мы все посвятили свою жизнь России по разным причинам. Для меня первым «толчком» стал Никита Хрущев. В 1964 году он ездил по скандинавским странам, перенимал сельскохозяйственный опыт. Мне было 16 лет. Я попала в число девушек, которые должны были в национальных нарядах подавать сыр высоким гостям. Все речи из резиденции звучали по трансляции во дворе, где мы ждали своего выхода. Я впервые услышала тогда, как красиво звучит русский язык. Для меня это было откровение, музыка, экзотика. Мне стало безумно интересно. Как раз тогда папа дал мне почитать роман Достоевского «Идиот». Я так увлеклась этими страстями! У нас дома было собрание сочинений Достоевского: я все прочитала и решила, что хочу заниматься только русской культурой.
«Только философия и спасает»
Дальше в жизни Рикке была Франция, где она после школы работала няней в семье генерального консула Дании. В свободное от трех воспитанников время брала уроки русского языка у эмигрантки из России. Успехи были фантастическими: вернувшись в Данию, Рикке с ходу поступила на второй курс. А в 1969 году приехала по обмену в Ленинград.
– У меня был культурный шок! Я же совсем еще зеленая была. Жила в общежитии ЛГУ на Васильевском. К нам специально подселяли русских студентов, нас прослушивали «майор Пронин» и «дядя Ваня»… Но я умудрялась встречаться с диссидентами. Мы же для них были связью с внешним миром. Один из них часто приглашал меня домой, и я там встретила Иосифа Бродского, «тунеядца и антисоветчика». Он читал свои стихи, а я, провинциальная датская девушка, с замиранием сердца слушала гения.
Рикке долго думала, как бы «преподнести датчанам всю свою любовь к России в одном докладе». Главное, решила она, русский менталитет. И цитировала пословицы и поговорки, которые неизменно помогают ей выжить.
– Самая моя любимая: «Закрывай глаза и получай максимум удовольствия». Другая: «Мне бы ваши проблемы». Классно! И еще вот это: «Ну, потерпи чуть-чуть, и все пройдет». Или: «Надо иметь философский взгляд на жизнь». Датчане привыкли планировать, а в России все может состояться внезапно и стихийно. Только философия тогда и спасает.
Но больше всего Рикке не устает удивляться русским людям. У нее есть несколько близких друзей среди русских, которым можно ночью позвонить, пожаловаться, с которыми не стыдно показаться слабой.
– Если у тебя есть друзья в этой стране, ты силен и защищен. Когда я приехала сюда в первый раз, познакомилась с Софией Вестерхольт, которая уже много лет живет в Дании. Она до сих пор моя самая близкая подруга. Соня всегда говорила: мои друзья – твои друзья, мой дом – твой дом, моя машина – твоя машина, и так далее. Соня познакомила меня с Андреем Петровым, с Юрием Темиркановым и еще с множеством прекрасных людей, культурных деятелей. Таким образом, у меня сразу была «база». Каждый знакомил меня со своим кругом, все помогали, возникали все новые друзья и связи, и получилась целая сеть вплоть до Окуджавы и Ростроповича.
«Обедать не успеваю»
Еще Рикке говорила датчанам о русском гостеприимстве. Она мечтает, чтобы в «правильной» Дании с ее красиво сервированными столами и строгим регламентом переняли нашу модель: приходи в любое время, всем найдется место за столом, еще и добавки дадут.
Рикке работает на Мойке, а живет на углу Пушкинской и Невского. Продукты покупает во «Владимирском пассаже» или на Кузнечном рынке. Предпочитает пельмени.
– Они такие вкусные! Плюс я прихожу домой поздно, и нужно быстро что-нибудь незатейливое кинуть в кастрюлю. Или бутерброды ем – это принято у нас в Дании. А обедать не успеваю или забываю. Кофе и сигареты – вот мой ежедневный рацион.
Увлечения у директора культурного центра, конечно, очень культурные. Рикке часто ходит в Филармонию и в Консерваторию, в концертный зал Мариинки. Театры реже, чем кино. Покупает диски домой, с удовольствием смотрела «Дети Арбата», пересматривает «В круге первом» и «Идиота» с Евгением Мироновым, хвалит «Александру» Сокурова. А «Преступление и наказание» не понравилось еще в виде анонса, как и «Война и мир».
А недавно к датским культурным проектам коллеги привлекли Питера Хелмса – сына Рикке. Ему 27 лет, он учится в Консерватории, пишет музыку. По-русски говорит без акцента, хотя учил язык давно, ребенком – с пяти до десяти лет в детском саду в Москве и в школе в Риге, так что знает еще и латышский. В марте в Петербурге состоится первое исполнение новой пьесы Питера Хелмса в Эрмитажном театре. А перед этим Рикке с гордостью будет сопровождать сына в Америку.
– Его маленькое сочинение – струнный квартет на шесть минут – будет звучать на фестивале за океаном. Я так довольна, хотя, конечно, очень волнуюсь! – И Рикке стучит по «деревяшке» и трижды плюет через левое плечо. Она все чаще ведет себя и думает по-русски, изредка плачет, в депрессии ведет дневник, но при этом всегда и везде чувствует себя датчанкой, пусть и немного обрусевшей. А когда датское воспитание начинает мешать русской работе, она твердит свои поговорки-мантры.
«Как красиво звучит русский язык»
Рикке заботливо угощает кофе, слегка флиртует с фотографом и трогательно волнуется перед съемкой. Рассказывает, как торопилась утром и забыла косметичку, и теперь в ее сумке только помада. Спрашивает, оставить ли ей на плечах «этот смешной платок», и хвастается дизайнерской брошью немыслимой красоты: датские ювелиры и дизайнеры, чью выставку Рикке организует, делают стильные вещи… из промышленных отходов.
В этот петербургский офис приходят исключительно творческие личности с оригинальными идеями. Рикке всех привечает, внимательно выслушивает и всем помогает. Она находила и возила в Данию русских художников, шоу моды, дизайнеров шляп и шуб, которые датчанки с удовольствием раскупали, кукольные театры. Осенью Рикке затеяла «Органный караван»: ездили по концертным залам, где есть органы, давали концерты и попутно исследовали инструменты. В июне грядет фестиваль профессиональных хоров из стран Балтии, в июле – «Балтийский бьеннале». Подали заявку на организацию международного летнего лагеря под Сестрорецком: 10 дней, 20 датчан, 20 финнов и 20 русских от 14 до 18 лет, общение только на английском.
До того как стать директором, Рикке была на родине преподавателем литературы, английского, немецкого и русского языков, проходила практику в Ленинградском университете при Брежневе, а при Горбачеве работала по контракту в университете московском.
– Недавно я выступала с докладом «За что я люблю Россию?». Вместе с профессором русской истории и личным переводчиком нашей королевы делилась с датской аудиторией мыслями и впечатлениями. Мы все посвятили свою жизнь России по разным причинам. Для меня первым «толчком» стал Никита Хрущев. В 1964 году он ездил по скандинавским странам, перенимал сельскохозяйственный опыт. Мне было 16 лет. Я попала в число девушек, которые должны были в национальных нарядах подавать сыр высоким гостям. Все речи из резиденции звучали по трансляции во дворе, где мы ждали своего выхода. Я впервые услышала тогда, как красиво звучит русский язык. Для меня это было откровение, музыка, экзотика. Мне стало безумно интересно. Как раз тогда папа дал мне почитать роман Достоевского «Идиот». Я так увлеклась этими страстями! У нас дома было собрание сочинений Достоевского: я все прочитала и решила, что хочу заниматься только русской культурой.
«Только философия и спасает»
Дальше в жизни Рикке была Франция, где она после школы работала няней в семье генерального консула Дании. В свободное от трех воспитанников время брала уроки русского языка у эмигрантки из России. Успехи были фантастическими: вернувшись в Данию, Рикке с ходу поступила на второй курс. А в 1969 году приехала по обмену в Ленинград.
– У меня был культурный шок! Я же совсем еще зеленая была. Жила в общежитии ЛГУ на Васильевском. К нам специально подселяли русских студентов, нас прослушивали «майор Пронин» и «дядя Ваня»… Но я умудрялась встречаться с диссидентами. Мы же для них были связью с внешним миром. Один из них часто приглашал меня домой, и я там встретила Иосифа Бродского, «тунеядца и антисоветчика». Он читал свои стихи, а я, провинциальная датская девушка, с замиранием сердца слушала гения.
Рикке долго думала, как бы «преподнести датчанам всю свою любовь к России в одном докладе». Главное, решила она, русский менталитет. И цитировала пословицы и поговорки, которые неизменно помогают ей выжить.
– Самая моя любимая: «Закрывай глаза и получай максимум удовольствия». Другая: «Мне бы ваши проблемы». Классно! И еще вот это: «Ну, потерпи чуть-чуть, и все пройдет». Или: «Надо иметь философский взгляд на жизнь». Датчане привыкли планировать, а в России все может состояться внезапно и стихийно. Только философия тогда и спасает.
Но больше всего Рикке не устает удивляться русским людям. У нее есть несколько близких друзей среди русских, которым можно ночью позвонить, пожаловаться, с которыми не стыдно показаться слабой.
– Если у тебя есть друзья в этой стране, ты силен и защищен. Когда я приехала сюда в первый раз, познакомилась с Софией Вестерхольт, которая уже много лет живет в Дании. Она до сих пор моя самая близкая подруга. Соня всегда говорила: мои друзья – твои друзья, мой дом – твой дом, моя машина – твоя машина, и так далее. Соня познакомила меня с Андреем Петровым, с Юрием Темиркановым и еще с множеством прекрасных людей, культурных деятелей. Таким образом, у меня сразу была «база». Каждый знакомил меня со своим кругом, все помогали, возникали все новые друзья и связи, и получилась целая сеть вплоть до Окуджавы и Ростроповича.
«Обедать не успеваю»
Еще Рикке говорила датчанам о русском гостеприимстве. Она мечтает, чтобы в «правильной» Дании с ее красиво сервированными столами и строгим регламентом переняли нашу модель: приходи в любое время, всем найдется место за столом, еще и добавки дадут.
Рикке работает на Мойке, а живет на углу Пушкинской и Невского. Продукты покупает во «Владимирском пассаже» или на Кузнечном рынке. Предпочитает пельмени.
– Они такие вкусные! Плюс я прихожу домой поздно, и нужно быстро что-нибудь незатейливое кинуть в кастрюлю. Или бутерброды ем – это принято у нас в Дании. А обедать не успеваю или забываю. Кофе и сигареты – вот мой ежедневный рацион.
Увлечения у директора культурного центра, конечно, очень культурные. Рикке часто ходит в Филармонию и в Консерваторию, в концертный зал Мариинки. Театры реже, чем кино. Покупает диски домой, с удовольствием смотрела «Дети Арбата», пересматривает «В круге первом» и «Идиота» с Евгением Мироновым, хвалит «Александру» Сокурова. А «Преступление и наказание» не понравилось еще в виде анонса, как и «Война и мир».
А недавно к датским культурным проектам коллеги привлекли Питера Хелмса – сына Рикке. Ему 27 лет, он учится в Консерватории, пишет музыку. По-русски говорит без акцента, хотя учил язык давно, ребенком – с пяти до десяти лет в детском саду в Москве и в школе в Риге, так что знает еще и латышский. В марте в Петербурге состоится первое исполнение новой пьесы Питера Хелмса в Эрмитажном театре. А перед этим Рикке с гордостью будет сопровождать сына в Америку.
– Его маленькое сочинение – струнный квартет на шесть минут – будет звучать на фестивале за океаном. Я так довольна, хотя, конечно, очень волнуюсь! – И Рикке стучит по «деревяшке» и трижды плюет через левое плечо. Она все чаще ведет себя и думает по-русски, изредка плачет, в депрессии ведет дневник, но при этом всегда и везде чувствует себя датчанкой, пусть и немного обрусевшей. А когда датское воспитание начинает мешать русской работе, она твердит свои поговорки-мантры.